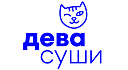10 мая 2024
Сегодня
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
24 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
29.06.2020
Композитор убежал. Богдан Королёк о Прокофьеве и Пимонове
Фортепианная музыка была для Сергея Прокофьева территорией артистической автономии: здесь от него не требовалось дотягивать до заказанного хронометража, обслуживать литературу, подстраиваться под нужды сцены и исполнителей. Первым и лучшим исполнителем, для которого эта музыка предполагалась, был он сам — за исключением Фортепианного концерта № 4, написанного по заказу однорукого пианиста Пауля Витгенштейна и отвергнутого им.
Пятый фортепианный концерт Прокофьев тоже сочинил как собственный бенефис, цирковой смертельный номер. Оркестр не вступает с пианистом в диалог и не соревнуется с ним, лишь подчеркивает рельеф сольной партии, поэтому использован очень скупой состав: из видовых инструментов имеется только флейта-пикколо, количество ударных сведено до минимума. Главный ударный инструмент, во всех смыслах слова — рояль. Выколачивание клавиатуры в первой части снабжено ремаркой con brio — живо, с блеском. Так Прокофьев и писал музыку на протяжении своей зарубежной карьеры: «кирпичиком по черепу», но с блеском. Таким, надо полагать, он был и в повседневности.
За двадцать с небольшим минут автор-бенефициант демонстрирует все возможности инструмента и свои собственные. Фейерверк не прекращается даже в Larghetto, единственной медленной части из пяти, составляющих концерт. Царит буйная веселость, респектабельному 41-летнему джентльмену не приставшая. От ударов, повторяемых в финале концерта, лица слушателей вспыхивают, будто нахал-композитор отвесил им пощечин.
Впрочем, к этому времени — заканчивался 1932 год — европейские слушатели привыкли к музыкальным эскападам Прокофьева. Ему самому как будто наскучило «устрашать бабушек»: именно после Пятого концерта он сменил манеру письма, сделав ее и мягче, и суровее. Следующая крупная премьера — Второй скрипичный концерт, 1935 год: автора легко узнать по гармонической жесткости языка, моторному и несколько тяжеловесному движению, а также по бесконечному повторению-варьированию одной удачно найденной темы. Ошарашивают не звуковые обвалы, а лаконизм и строгость письма, которые были приняты первыми слушателями за бедность фантазии. Гротеск и эксцентрика ушли в почву и отныне будут питать музыку, не прорастая в прежнем виде. Интонация становится экстравертной, а в качестве главного элемента композиции утверждается мелодия — впервые у Прокофьева столь ясная и протяженная.
Прокофьев и раньше стремился быть ясным, но признавался, что получалось не всегда: материал уводил за собой. «…весь первый период характеризуется преобладанием изобильного мелодического материала над его собранностью, над экономией пользования им; преобладанием богатства над распределением».1 Борис Асафьев дал характеристику творчества Чайковского, но именно так можно сказать о сочинениях Прокофьева, написанных за границей, в том числе о Фортепианном концерте № 5. В нем композитор уже потратился: хореограф, который берется за эту музыку, имеет роскошь быть экономным.
Антон Пимонов склонен именно к внутренней экономии. Начиная с первых постановок, он использует лишь основные pas и элементарные комбинационные приемы. Декорирование классического танца «современными» руками и корпусом его не занимает. Энергия накапливается по мере неторопливого развертывания хореографии — за мнимой простотой танцевального рисунка открываются и сдержанный юмор, и сарказм.
Именно так было в трех предыдущих балетах Пимонова на музыку Прокофьева — «Скрипичном концерте № 2» (2016), «В темпе снов», где звучала Вторая скрипичная соната (2013), и в лучших эпизодах «Ромео и Джульетты» (2015). Выбор показателен — всё это Прокофьев, уже расставшийся с чрезвычайной пиротехникой, — «царство объективизированного страдания» и радости, «где нет более никаких намеков на житейские сожаления».2 Очевидно, Пимонова привлекают и эта разумная объективизация чувств, спокойствие художника, и приподнятый лирический тон. Ровное моторное движение и ритмическая гладкость музыки позволяют свободно выводить узор танцевальных синкоп и пауз. В моменты холерических нагнетаний и взрывов хореограф-сангвиник сдержан, избегает лобовых соответствий (на самую громкую музыку — самая высокая поддержка иль что-нибудь такое) и предпочитает работать с музыкой на контрасте. Тем интереснее, каким образом он сохранит или скорректирует собственную манеру в «Концерте № 5», где эксцентрики и грома сверх меры.
Самые удивительные находки Пимонов совершает там, где музыкальный мотор внезапно глохнет и звук повисает в невесомости. Сценический эффект в таких эпизодах достигается не изощренным танцем, а его исчезновением, сведением до элементарных pas de bourrée и шагов, к которым добавляются пустяковые port de bras. В средней части «Скрипичного концерта № 2» можно не запомнить ни одного pas в сольных дуэтах, но выход кордебалета сомнамбул впечатывается в память крепко.
Предмет размышлений и адресат Прокофьева — не вечность, но сегодняшний день. Сидеть на месте скучно, художник должен производить продукт: не ставят оперу — взяться за следующую; однорукий заказчик отказался от фортепианного концерта — написать новый, для своих двух. Сочинительство Прокофьева есть ежедневное отправление ремесла, поэтому пьесы 20-30-х столь неравноценны. В конечном счете, композиция предстает способом активного переживания жизни, в которой есть место для brio, но не для страдания. Возможно, это свойство музыки Прокофьева привлекает Пимонова не меньше, чем ее формальные достоинства. Обоих роднит потребность в непрерывном художественном производстве. Трудность жизни не отражена в сочинениях, все трудности — чисто исполнительского свойства, их преодоление составляет особое удовольствие.
По совпадению, новый балет Антона Пимонова на музыку Сергея Прокофьева выходит в год очередного юбилея композитора. Один из документальных фильмов к предыдущей круглой дате назывался «Прокофьев наш», а в 2021 году этот лозунг вновь был вывешен в сетевых дискуссиях вокруг фигуры советского гения. Таким образом художник прошлого оказался присвоен в качестве объекта мемориального поклонения, исторической благодарности.
Скорее всего, Прокофьев не наш и вообще ничей, а только свой собственный. Его музыка — иное дело: она потенциально есть у каждого, и это множество непохожих музык. Композитор уходит от присвоения, растворяясь в своих сочинениях, те двоятся в новых и новых исполнениях — и вот миллион маленьких Прокофьевых убегает ото всех.
Экспроприация и обожествление композитора прошлого тем более невозможны в балетном спектакле на его музыку. Суть такого спектакля составляет движение, переживание сей секунды и наступления следующей — переживание, данное в изменчивом танцевальном орнаменте. Звучащая в балете музыка оказывается современной, когда бы ни была написана, и хореограф вступает с ней в сложные отношения на равных, как любой ее слушатель.
В балете «Концерт № 5» будет впервые исполнен новый Пятый фортепианный концерт Сергея Прокофьева.
Текст: Богдан Королёк
Пятый фортепианный концерт Прокофьев тоже сочинил как собственный бенефис, цирковой смертельный номер. Оркестр не вступает с пианистом в диалог и не соревнуется с ним, лишь подчеркивает рельеф сольной партии, поэтому использован очень скупой состав: из видовых инструментов имеется только флейта-пикколо, количество ударных сведено до минимума. Главный ударный инструмент, во всех смыслах слова — рояль. Выколачивание клавиатуры в первой части снабжено ремаркой con brio — живо, с блеском. Так Прокофьев и писал музыку на протяжении своей зарубежной карьеры: «кирпичиком по черепу», но с блеском. Таким, надо полагать, он был и в повседневности.
За двадцать с небольшим минут автор-бенефициант демонстрирует все возможности инструмента и свои собственные. Фейерверк не прекращается даже в Larghetto, единственной медленной части из пяти, составляющих концерт. Царит буйная веселость, респектабельному 41-летнему джентльмену не приставшая. От ударов, повторяемых в финале концерта, лица слушателей вспыхивают, будто нахал-композитор отвесил им пощечин.
Впрочем, к этому времени — заканчивался 1932 год — европейские слушатели привыкли к музыкальным эскападам Прокофьева. Ему самому как будто наскучило «устрашать бабушек»: именно после Пятого концерта он сменил манеру письма, сделав ее и мягче, и суровее. Следующая крупная премьера — Второй скрипичный концерт, 1935 год: автора легко узнать по гармонической жесткости языка, моторному и несколько тяжеловесному движению, а также по бесконечному повторению-варьированию одной удачно найденной темы. Ошарашивают не звуковые обвалы, а лаконизм и строгость письма, которые были приняты первыми слушателями за бедность фантазии. Гротеск и эксцентрика ушли в почву и отныне будут питать музыку, не прорастая в прежнем виде. Интонация становится экстравертной, а в качестве главного элемента композиции утверждается мелодия — впервые у Прокофьева столь ясная и протяженная.
Прокофьев и раньше стремился быть ясным, но признавался, что получалось не всегда: материал уводил за собой. «…весь первый период характеризуется преобладанием изобильного мелодического материала над его собранностью, над экономией пользования им; преобладанием богатства над распределением».1 Борис Асафьев дал характеристику творчества Чайковского, но именно так можно сказать о сочинениях Прокофьева, написанных за границей, в том числе о Фортепианном концерте № 5. В нем композитор уже потратился: хореограф, который берется за эту музыку, имеет роскошь быть экономным.
Антон Пимонов склонен именно к внутренней экономии. Начиная с первых постановок, он использует лишь основные pas и элементарные комбинационные приемы. Декорирование классического танца «современными» руками и корпусом его не занимает. Энергия накапливается по мере неторопливого развертывания хореографии — за мнимой простотой танцевального рисунка открываются и сдержанный юмор, и сарказм.
Именно так было в трех предыдущих балетах Пимонова на музыку Прокофьева — «Скрипичном концерте № 2» (2016), «В темпе снов», где звучала Вторая скрипичная соната (2013), и в лучших эпизодах «Ромео и Джульетты» (2015). Выбор показателен — всё это Прокофьев, уже расставшийся с чрезвычайной пиротехникой, — «царство объективизированного страдания» и радости, «где нет более никаких намеков на житейские сожаления».2 Очевидно, Пимонова привлекают и эта разумная объективизация чувств, спокойствие художника, и приподнятый лирический тон. Ровное моторное движение и ритмическая гладкость музыки позволяют свободно выводить узор танцевальных синкоп и пауз. В моменты холерических нагнетаний и взрывов хореограф-сангвиник сдержан, избегает лобовых соответствий (на самую громкую музыку — самая высокая поддержка иль что-нибудь такое) и предпочитает работать с музыкой на контрасте. Тем интереснее, каким образом он сохранит или скорректирует собственную манеру в «Концерте № 5», где эксцентрики и грома сверх меры.
Самые удивительные находки Пимонов совершает там, где музыкальный мотор внезапно глохнет и звук повисает в невесомости. Сценический эффект в таких эпизодах достигается не изощренным танцем, а его исчезновением, сведением до элементарных pas de bourrée и шагов, к которым добавляются пустяковые port de bras. В средней части «Скрипичного концерта № 2» можно не запомнить ни одного pas в сольных дуэтах, но выход кордебалета сомнамбул впечатывается в память крепко.
Предмет размышлений и адресат Прокофьева — не вечность, но сегодняшний день. Сидеть на месте скучно, художник должен производить продукт: не ставят оперу — взяться за следующую; однорукий заказчик отказался от фортепианного концерта — написать новый, для своих двух. Сочинительство Прокофьева есть ежедневное отправление ремесла, поэтому пьесы 20-30-х столь неравноценны. В конечном счете, композиция предстает способом активного переживания жизни, в которой есть место для brio, но не для страдания. Возможно, это свойство музыки Прокофьева привлекает Пимонова не меньше, чем ее формальные достоинства. Обоих роднит потребность в непрерывном художественном производстве. Трудность жизни не отражена в сочинениях, все трудности — чисто исполнительского свойства, их преодоление составляет особое удовольствие.
По совпадению, новый балет Антона Пимонова на музыку Сергея Прокофьева выходит в год очередного юбилея композитора. Один из документальных фильмов к предыдущей круглой дате назывался «Прокофьев наш», а в 2021 году этот лозунг вновь был вывешен в сетевых дискуссиях вокруг фигуры советского гения. Таким образом художник прошлого оказался присвоен в качестве объекта мемориального поклонения, исторической благодарности.
Скорее всего, Прокофьев не наш и вообще ничей, а только свой собственный. Его музыка — иное дело: она потенциально есть у каждого, и это множество непохожих музык. Композитор уходит от присвоения, растворяясь в своих сочинениях, те двоятся в новых и новых исполнениях — и вот миллион маленьких Прокофьевых убегает ото всех.
Экспроприация и обожествление композитора прошлого тем более невозможны в балетном спектакле на его музыку. Суть такого спектакля составляет движение, переживание сей секунды и наступления следующей — переживание, данное в изменчивом танцевальном орнаменте. Звучащая в балете музыка оказывается современной, когда бы ни была написана, и хореограф вступает с ней в сложные отношения на равных, как любой ее слушатель.
В балете «Концерт № 5» будет впервые исполнен новый Пятый фортепианный концерт Сергея Прокофьева.
Текст: Богдан Королёк
1. Глебов И. [Асафьев Б.] Чайковский. — Петроград: Светозар, 1922. С. 21.
Посмотреть ещё