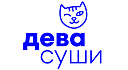16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
24 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
22.06.2017
Новый компаньон: Новые голоса «пермского Моцарта»
Феномен, получивший чуть ироничное название «пермский Моцарт», вырвался за пределы России: на Зальцбургском фестивале 27 июля дирижёр и оркестр из Перми покажут премьеру оперы Моцарта «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса, а чуть раньше, 23 июля, оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят Реквием Моцарта. По нерушимой традиции первый просмотр гастрольных программ прошёл в Перми.
«Милосердие Тита» было представлено в концертном исполнении. Трёхчасовая (с одним антрактом) опера на античный сюжет могла бы отпугнуть публику, если бы не хорошее знание того, что с Курентзисом скучно не бывает. Ожидания оправдались, и даже более чем.
Типичный для современной постановки барочной оперы преимущественно женский состав (в том числе два меццо-сопрано в «брючных» ролях) был идеально выстроен, радовал «спетостью». Многие шли «на Надежду Павлову» (звезда «Травиаты» выступала в роли Вителлии), но в перерыве и после окончания спектакля говорили в основном о Дарье Телятниковой в роли Секста, которой вынужденный перерыв в карьере, связанный с рождением ребёнка, пошёл, кажется, лишь на пользу. Молодая певица, замеченная в позапрошлом сезоне в роли Церлины в «Дон Жуане» того же Моцарта, оказалась обладательницей своеобразного «барочного» голоса, со слегка мальчишеским тембром, блестяще музыкальной и очень артистичной. Что касается Павловой, то она, как и Наталья Кириллова (Сервилия), и меццо-сопрано Наталия Ляскова (Анний), была тонка и бесспорна.
Сложнее было с мужчинами. Партию Публия исполнял пермский бас Владимир Тайсаев из оперных ветеранов, который отлично вписался в молодёжную компанию. Он пел сдержанно, элегантно, без лишнего пафоса, вызывая лишь одну небольшую претензию — к его произношению итальянского. Заглавную партию пел приглашённый тенор — солист Камерного музыкального театра им. Бориса Покровского Сергей Годин, и, как и в недавней постановке «Богемы» Пуччини, пермские девушки напрочь перепели приезжего мужчину. Не слишком яркий в сольных партиях, тем не менее Годин достойно вписался в ансамбль, и первое действие завершилось вокальным квартетом невероятной красоты.
Опера и в концертном варианте была очень зрелищна. Не только певцы, но и музыканты оркестра играли какие-то роли: первые скрипки Афанасий Чупин и Инна Прокопьева-Райс протанцевали всё действие, причём танец был парным — музыканты активно взаимодействовали без слов. Примерно так же, только сидя, а не стоя, вели себя флейтисты Юлия Палац и Иван Бушуев. Особое внимание привлёк высокий, красивый Флориан Шюле, который виртуозно солировал на архаичном, откровенно деревянном кларнете. Если говорить о виртуозности, то невозможно не упомянуть хаммерклавиристку Марию Шабашову: благодаря ей и лютнисту Израэлю Голани, уже знакомому пермякам по концертному же исполнению «Дидоны и Энея» Пёрселла, ну и, конечно, благодаря певцам, неизбежные речитативы звучали не как промежутки между «настоящей» музыкой, а как музыка, обладающая особой красотой.
И, конечно, Теодор Курентзис, подвижный и выразительный, который тем не менее не перетягивал на себя зрительское внимание чрезмерной подвижностью. Заслуга оркестра, конечно, не в танцах и демонстрации диковинных инструментов, а в редкостной музыкальности, которая не самую популярную оперу Моцарта, не хвастающую «хитовыми» ариями, немедленно сделала любимой публикой.
В пору было сочувствовать зрителям Зальцбурга — ведь они не услышат этот блестящий, тщательно выстроенный, безупречно ансамблевый певческий состав, не увидят этого очень сценичного оркестра, который в «полноценной» постановке на сцене присутствовать не будет.
После триумфа «Милосердия Тита» исполнения Реквиема четыре дня спустя ждали с особенным нетерпением. И дождались: Курентзис, любитель сюрпризов и экспериментов, устроил под конец сезона мини-сенсацию, которая вылилась в горячие многодневные обсуждения в социальных сетях.
Как и следовало ожидать, это был «Реквием впервые»: Курентзис что-то смягчил, что-то, напротив, заострил — наизусть известная музыка зазвучала как новая. Популярнейшая Lacrimosa подверглась особенно радикальной трансформации: обычно лирично-напевная, грустно-меланхолическая, она стала отрывистой, драматичной, гневной, почти как Dies Irae. Стаккато и крещендо были отменные, хор работал, как хорошо настроенный орган, но понравилось не всем: знатоки и ценители говорили о слишком формальном, слишком инструментальном прочтении, о том, что «исчезла душа». Им возражали: дирижёр не погрешил против «буквы» моцартовского произведения, он лишь извлёк на свет то, что в ней всегда было, но скрывалось в традиционных интерпретациях.
Впрочем, с «буквой» Курентзис тоже обошёлся вольно. Почти в самом финале, после Agnus Dei, хор вдруг... запел по-русски. Под минималистическое сопровождение нескольких инструментов в неподвижном молчании оркестра сопрано выводили следующий текст:
Осанна, осанна, осанна ин экцельсис.
К Моцарту пришёл однажды некий незнакомец, высокий и худой чёрный человек
и передал ему странное письмо, в котором был заказ на Реквием.
Моцарт не знал имени заказчика, и тягостное чувство овладело им.
Моцарт почувствовал, что смерть к нему приходит, и понял, что Реквием он пишет для себя.
Моцарт всё слабел, слабел и на седьмой день умер, и на третий день был он погребён.
И ангелы пели и играли Реквием Моцарта, на небе завершённый.
На фоне классической латыни этот простодушный пересказ легенды о Реквиеме прозвучал, как «Война и мир», изложенная в комиксах. Тематически, стилистически и ритмически так и просилось фольклорное завершение: «И в землю закопал, и надпись написал...» Но исполнено было прекрасно — безупречно музыкально и очень проникновенно; это был чуть ли не самый трогательный момент во всём концерте.
Оказалось, что Курентзис дополнил музыку Моцарта сочинением Сергея Загния, написанным для проекта фестиваля «Территория» 2008 года, когда несколько современных композиторов дописали недостающие фрагменты Реквиема. Эксперимент, мягко говоря, рискованный, однако заинтриговал — захотелось послушать весь «дописанный» Реквием целиком.
Это была не единственная вольность по отношению к канону: после Lacrimosa Курентзис сделал ещё одну вставку, менее заметную — фрагмент из недописанной фуги Моцарта.
Всё это вызвало множество споров; а вот оценка певцов разногласия не вызвала: зрителям не понравилась сопрано Елизавета Свешникова. Начала она очень слабо, высоты не вытягивала и распелась лишь к «Бенедиктусу», но и после продолжала петь так, будто она одна на сцене, не думая об ансамбле. По контрасту с тонкой, интеллигентной и очень точной меццо-сопрано Наталией Лясковой, эмоциональным тенором Томасом Кули (США) и роскошно рокочущим басом из Франции Эдвином Кроссли-Мерсером, который здесь показал себя даже лучше, чем в недавней «Богеме», Свешникова воспринималась инородным телом.
В театре говорят, что Курентзис видит в ней большой потенциал и намерен зажечь очередную звезду. Что ж, остаётся довериться чутью маэстро. Возможно, он знает, как огранить этот камушек, чтобы он стал бриллиантом... Но пока — не блестит.
В общем, дирижёр, придумавший жанр «концерта-энигмы», загадал музыкальному миру ещё одну загадку. Как и в случае с «Милосердием Тита», можно посочувствовать зальцбургской публике: вряд ли Курентзис рискнёт исполнить Реквием на европейском фестивале со всеми вольностями, а солисты точно будут другие, так что тамошние меломаны не получат роскошного повода для дискуссий, который маэстро подарил Перми.
В общем, дирижёр, придумавший жанр «концерта-энигмы», загадал музыкальному миру ещё одну загадку. Как и в случае с «Милосердием Тита», можно посочувствовать зальцбургской публике: вряд ли Курентзис рискнёт исполнить Реквием на европейском фестивале со всеми вольностями, а солисты точно будут другие, так что тамошние меломаны не получат роскошного повода для дискуссий, который маэстро подарил Перми.
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023