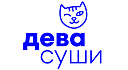26 апреля 2024
Сегодня
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
10.10.2014
Петербургский театральный журнал: «Стиль, свобода, перфекционизм...»
В.-А. Моцарт. «Дон Жуан». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Музыкальный руководитель и дирижер Теодор Курентзис, режиссер-постановщик Валентина Карраско, сценография Эстерины Зарилло, Валентины Карраско
Итак, дирижер Теодор Курентзис сдержал свои обещания, и Пермский оперный театр теперь единственный в стране, где осуществлена знаменитая оперная трилогия Моцарта и либреттиста Лоренцо да Понте: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все».
Все три оперы в течение трех сезонов ставили разные режиссеры, спектакли стилистически неодинаковы, и концептуальность этого проекта отнюдь не в единстве постановочного решения. Она определенно исчерпывается понятием «Моцарт дирижера Курентзиса ». Или «пермский Моцарт». Стиль, свобода и перфекционизм — вот те категории, что всегда вдохновляют художественного лидера оркестра MusicAeterna, исповедующего аутентистские принципы музицирования. Скажем прямо: такого Моцарта, кроме как в Перми, не услышать больше нигде. Но честно добавим, что и в Перми это услышать не так просто, после премьерной серии из шести «Дон Жуанов» все три моцартовских шедевра покажут друг за другом в начале зимы. И это будет единственный раз за сезон. Курентзис категорически против репертуарного театра, по его мнению, ежедневный поток разных спектаклей не способствует высокому исполнительскому качеству, и с этим трудно спорить.
Ставить «Дон Жуана» Курентзис предложил аргентинке Валентине Карраско, режиссеру известной каталонской группы La Fura dels Baus. Какие уроки она усвоила, работая с ней, осталось не совсем ясным, ее спектакль радикальным никак не назовешь. Добиваясь желаемой инфернальной атмосферы, Карраско загромоздила сцену невероятным количеством обнаженных манекенов и жутковатыми стеллажами с теми же манекенами, но уже расчлененными. Видео-арт, снятый в стиле нуар (с немалым присутствием ню!), проецируемый на прозрачный суперзанавес, дополняет загадочную мрачность пространства, в котором и разыгрывается моцартовская dramma giocoso. Заложенный в определения жанра дуализм (веселая драма) вспоминается не раз, на протяжении всего спектакля зрителям так и будет: то страшновато, то весело. Вот персонажи этого зловещего мира, и выглядят они даже не странно — нелепо. Поверх вполне современной одежды все поголовно носят бандажи и корсеты, ортопедические шины и накладки. Единственный, кто нормален и здоров в этом мире пластиковых кукол, немощных физически и морально инвалидов, — конечно же, Дон Жуан. Он живее всех живых. С естественными реакциями, желаниями, поступками. И этой через край бьющей витальности, а главное — свободы быть самим собой — ему не простят ни за что! Зловещее окружение его непременно растопчет, съест и уничтожит. Собственно, с этого еще на музыку увертюры и начинается спектакль, и все последующее — лишь отматывание пленки назад.
Прямолинейность посыла — главная мысль обнаруживает себя с самого начала, и финал закономерно предсказуем — не отменяет достоинств постановки. Карраско сочинила живой, смелый, лишенный особых рефлексий, но зато изобилующий пикантными эротическими подробностями спектакль. Довольно динамичный в первом акте и слегка буксующий во втором. Рассчитанный на наши богатые киношные ассоциации. Кульминацией первого акта становится сцена бала у Дон Жуана, который тут превращен в отвязную, хулиганскую вечеринку. Согласно донжуановскому дресс-коду туда пускают не всех, а только тех, кто добровольно снимает с себя ненавистные вериги.
Толпа веселых фриков и разноцветных неформалов всех мастей и ориентаций сначала врывается в зрительный зал, затем и на сцену, разворачивая длинный транспарант Viva La Liberta. Но праздник непослушания и свободы длится недолго. Под натиском ханжески злобных пуритан с костылями и протезами все возвращается на круги своя, к прежней унылой серо-коричневой обыденности. Во втором акте, большей частью состоящем из арий — крупных планов, мы пристальнее разглядим главных героев. Все они, донна Анна, Оттавио, Эльвира, вдохновленные общением с Дон Жуаном, захотят избавиться от своих комплексов, в прямом смысле — снять нелепые ограничители. Но и из этого ничего не получится. Особенно забавной выглядит откровенная сцена, где расшалившаяся Церлина исполняет мини-стриптиз, пытаясь соблазнить своего жениха, увальня Мазетто. В самый ответственный момент накладной гульфик на причинном месте у того застревает намертво. Опять не вышло. И здесь возникает неожиданная и вряд ли запланированная режиссером параллель с фильмом «Бриллиантовая рука» (сцена «брюки превращаются»), публика в голос хохочет.
С артистами — а их два состава (в Перми провели придирчивый международный кастинг) — Карраско поработала отлично. Им предложен актерский рисунок необычайной подвижности, сценические задачи непросты, детали поведения проработаны, и абсолютная свобода при очень достойном вокале — достижение большинства солистов этого спектакля. Оба исполнителя титульной партии по-своему хороши. Симоне Альбергини, уже давно известный российской публике, — видавший виды неотразимый донжуан донжуаныч с мефистофельской полуулыбкой. Андре Шуэн сокрушительно молод и хорош собой, обладает баритоном бархатного тембра, его певческие победы гораздо весомее, в частности скоростная «Ария с шампанским » и спетая на невероятном пианиссимо Серенада. В общем — несомненное открытие спектакля. Из приглашенных солистов особо хороши Гвидо Локонсоло в роли Лепорелло, озорника под стать хозяину, и стервозно-соблазнительная Ивона Соботка (Донна Анна). Случились и обещанные Курентзисом еще накануне премьеры открытия в пермской труппе. Имена Надежды Павловой (Донна Анна), Дарьи Телятниковой (Церлина), Бориса Рудака (Оттавио) стоит запомнить хотя бы потому, что никто из них ни в вокале, ни сценически не проиграл статусным иностранцам. А Телятникова так даже порой переигрывала, но запомнилась гораздо ярче певшей ту же партию Фани Антонелу.
Нет смысла говорить, что «Дон Жуан» Моцарта — опера для Курентзиса особо значимая. Рискну предположить — главная. На публике он представлял ее уже не однажды, многим памятны и московское концертное исполнение, и спектакль, сделанный совместно с Дмитрием Черняковым в Большом театре. Думаю, что и этот «Дон Жуан» — не последний. В пермской премьере дирижер поучаствовал и актерски: в сцене послепраздничного избиения хиппующих неформалов один из злобных инвалидов бежит к оркестровой яме и в остервенении топчет партитуру Моцарта. Невозмутимый маэстро проводит концовку первого акта без нот. Ясно, что параллелей с главным героем, живущим, несмотря ни на что, по своим правилам и собственным законам, Курентзис не боится. Скорее всего, такие аналогии для него желательны, достаточно взять в руки отлично сделанный буклет, где много интересных текстов, культурологического контекста, увлекательных интервью и, в том числе, стильная и загадочная фотосессия самого маэстро.
Вообще, прекрасная сама по себе идея этого спектакля об уникальной независимой личности в процессе реализации у режиссера получилась все-таки несколько упрощенной. Ведь свободу Карраско понимает исключительно как свободу нравов, любовь заменяет сексом, столь важная для мифологии образа Дон Жуана погоня за идеалом и «вечно женственным» порой начинает напоминать банальный промискуитет. И опустошенному герою ничего не остается, как спеть серенаду резиновой кукле (маленький привет феллиниевскому «Казанове»!). А где амбивалентность и парадоксальность Дон Жуана, да и психологическая неоднозначность других персонажей? Где экзистенциальный космос, метафизические глубины и тайны? Ответ правильный — в партитуре Моцарта, озвученной Курентзисом и его музыкантами. Здесь есть все искомое, прихотливо-свободный темпоритм, игра тембральных красок (жильные струны и натуральная медь звучат удивительно свежо), чудеса, творимые на хаммерклавире Джори Виникуром. И этот контрапункт музыки и сцены, похоже, становится главным принципом работы дирижера с современной режиссурой. Равный по масштабу соратник ему нужен не всегда. Исключение — прошлогодняя «Королева индейцев» Перселла в постановке Питера Селларса.
Кстати, для концепции Карраско гораздо больше подошла бы другая версия партитуры, без заключительной сцены и морализаторского фугато в конце, которое здесь уж точно выглядит нелепым довеском. Ей, наверное, важнее было бы оставить своих героев не торжествующими победу, а опустошенными, невостребованными, неудовлетворенными, с туманными жизненными перспективами. Главный двигатель их деятельности исчез, и все сразу теряет смысл. Но Курентзису в завершении проекта, начатого три года назад, важно было раскрыть все купюры и представить полный вариант партитуры. За постановкой у него сразу следует период — долгий и тщательный — записи профессионалами компании Sony Classical, с которой у дирижера эксклюзивный и долгосрочный контракт. Весной прошлого года вышел релиз «Le nozze di Figaro», уже собравший и восторженные отзывы критики, и серьезные награды (в частности ECHO Klassik и совсем недавно — «CD года» по версии авторитетного журнала Opernwelt). В ноябре появилась запись «Cosi fan tutte», а последний диск «Don Giovanni» выйдет в следующем году. При всей внешней богемности у Курентзиса — строго и четко продуманный алгоритм творческой жизни: есть этап создания спектаклей, и есть время, чтобы увековечить их музыкальную составляющую.
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023