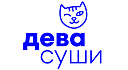26 апреля 2024
Сегодня
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
26.10.2011
Московские новости: Встреча у фонтана
«Додумался мужик — поселить любимую женщину к брошенной жене. Конечно, вышла бытовуха» — две юные дамы цокали каблуками из Пермского оперного, разговором доказывая, что поэма Александра Сергеевича Пушкина не зря целиком напечатана в премьерном буклете: в наше время есть зрители, которым этот сюжет незнаком. Впрочем, именно в первые дни показа таких среди публики было явное меньшинство: на премьеры ходят знатоки и фанаты, а «Бахчисарайский фонтан» Ростислава Захарова многое значит для Перми.
Большая балетная судьба этого города началась во время войны, когда в Молотов (город был переименован) эвакуировали Кировский театр и Вагановское училище. И в сезоне 1941/42 в Перми танцевали поставленный семью годами ранее «Бахфонтан» — как сокращают название спектакля артисты. Когда театр и школа смогли вернуться домой, на Урале осталась замечательная учительница Екатерина Гейденрейх. Ей, немке, вернуться не позволили, и с нее началась пермская школа, ныне третья по значению в стране. И потому ясно, почему именно «Бахфонтан» выбрал главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко, когда решил, что в репертуаре театра надо поддерживать баланс между милыми его сердцу бессюжетными одноактовками современных авторов и «большими балетами», которые так любит зритель.
Для постановки он пригласил мариинского педагога Галину Рахманову, что много лет исполняла роль Заремы в захаровском спектакле. И балет оказался удивительно живым, бодрым и притом трогательным. Потускнели «сопутствующие истории» — о том, как Захаров десятилетиями вытаптывал отечественную хореографию (чтоб ничегошеньки непохожего на него не выросло). Остался артефакт — балет, поставленный хореографом до того, как он превратился в ну, скажем так, очень нехорошего человека. Пермский балет, первым в стране (еще до Мариинки) начавший танцевать Баланчина, теперь проговорил «Бахфонтан» как декларацию: это — прошлое. Уже не опасно. Но — любопытно. Давайте рядом напишем в программке о двух Сталинских премиях Захарова и о «Золотой маске» дирижера Валерия Платонова. И — давайте посмотрим.
Оценим прежде всего точность психологических портретов двух главных героинь, что прорисованы и в игре, и в танце. Нежная полячка Мария, плененная воспылавшим к ней страстью крымским ханом, и яростная грузинка Зарема, бывшая любимой женой властителя до появления в гареме ненавистной соперницы, различны во всем — в мимике, в жестах, в каждом па. Марию (роль которой когда-то принадлежала Улановой) играет закончившая школу лишь два года назад Инна Билаш — и ее героиня ступает тихо, ногу выше чем на 45 градусов не поднимает, и в момент, когда Зарема «кричит» на нее, все пытается погладить ревнивицу по голове — мол, успокойся, мне напрочь не нужен твой дикарь. Зарема же (в легенде — Плисецкая, сейчас на сцене — Альбина Рангулова) обвиняет и умоляет, взлетает в яростных прыжках, закидывая ногу к затылку, и вся никнет, будто из нее вытащили скелет, от устало-раздраженного взгляда хана. Эта женская дуэль, в которой та, что вовсе не желает сражаться, выигрывает ненужного ей хана и обе проигрывают жизнь, придумана умно и ярко и с азартом воспроизведена сегодняшними балеринами.
Но не только эта схватка хороша в пермском балете. Отличные поляки в первом акте (где Мария еще беспечно флиртует с ухажером в своем поместье) — и собственно жених, которого быстренько прирезали при набеге крымчаки (что естественно — танцевал Никита Четвериков хорошо, а фехтовал из рук вон плохо), и двое юных шляхтичей (Сергей Клочков и Александр Таранов). Замечателен в целом гарем — разнообразие лиц и эмоций в момент, когда жены понимают, что прежняя правительница свергнута с пьедестала: от злорадства до сочувствия, от испуга до безразличия. Девочка-колокольчик, которую можно встретить в любом женском коллективе — тут она, натурально, танцует с колокольчиками (Анна Терентьева заслуживает отдельного аплодисмента). Внушительный и мрачный хан Гирей (Марат Фадеев), взлетающий на пару метров от сцены в диком танце его подчиненный Нурали (Роман Тарханов). Ну и, конечно, оркестр, воспроизводящий вполне служебную музыку Бориса Асафьева с таким пылом, будто это Бетховен и Шостакович вместе взятые.
Спектакль, когда-то бывший установленным образцом для бедных сочинителей танцев (шаг вправо, шаг влево — хм, не рекомендуется), превратился в то, чем всегда был — в нормальную мелодраму с двумя хорошими женскими ролями. Да-да, именно про то, что мужик чего-то не продумал. А потом долго стоял у фонтана, вспоминал двух мертвых женщин и плакал.
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023