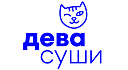26 апреля 2024
Сегодня
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
26.06.2014
КоммерсантЪ: Пермские сезоны
В Перми в эти дни проходит многожанровый международный Дягилевский фестиваль, аккумулировавший в своей программе лучшие силы российского и европейского исполнительского искусства. Из Перми — Елена Кравцун.
Фестиваль уже в восьмой раз проводится в Перми, городе, исторически и духовно связанном с Дягилевым. Мероприятие за несколько последних лет приобрело захватывающий дух масштаб и еще больше раздвинуло рамки своего формата. В этом году организаторы Дягилевского фестиваля в стремлении сделать его еще более открытым и, что называется, friendly по отношению к публике на театральной площади запустили Дягилевский клуб в белом шатре, под сенью которого можно было посмотреть видео спектаклей номинантов премии имени Дягилева и дневники фестиваля, послушать лекции и поучаствовать в public talk.
Международный смотр начался по сложившейся традиции с балетов, а именно с программы под названием "Век танца: Стравинский—Баланчин". Благодаря успешному сотрудничеству с Фондом Джорджа Баланчина Пермский театр оперы и балета наряду с Большим театром и Мариинкой с девяностых годов получил священное право танцевать хореографию "Петипа XX века" — теперь к уже имеющимся в репертуаре труппы восьми балетам добавились еще три. "Аполлон Мусагет" (1928), ставший истинным украшением последних лет Дягилевских сезонов, кульминация неоклассицистской линии в творчестве Стравинского и момент обретения своего хореографического "я" Баланчиным, был проведен артистами в трепетном почтении к создателям. Несмотря на адекватное раскрытие партитуры и торжество красивых тел, этому царству балетных форм несколько не хватало легкости в приземлениях и изящного озорства.
Мифологическую идиллию сменили "Рубины" (1967) из трехчастного спектакля Баланчина "Драгоценности". Задник сцены, декорированный огромными стразами—имитациями самоцветов, вполне воплощал отечественное представление о шике-блеске в привычном духе "дорого-богато". Джазовый рисунок танца с соблазнительными па артисты труппы выдавали со столь залихватской энергией, что даже досадное падение одной из балерин не стало большой проблемой. Последним балетом вечера и российской премьерой стала "Симфония в трех движениях" (или в трех частях, 1972) — многосоставное напористое действо, напоминающее своими угловатыми движениями, с одной стороны, линии танца Нижинского, а своими спортивными перемещениями — соцреалистическую аэробику, с другой.
Вручение Международной премии им. С. П. Дягилева, которая призвана поощрять продюсеров музыкального театра, в этом году закономерно проходило под знаком памяти реформатора оперного театра, импресарио и Дягилева наших дней Жерара Мортье, председательствовавшего в жюри премии на протяжении нескольких лет и скончавшегося в марте этого года. В номинации участвовали пять европейских продюсеров, работы которых так или иначе отличились связью западноевропейской и русской культур: Юрген Флимм, Ева Вагнер-Паскье и Катарина Вагнер, Джон Берри и собственно Жерар Мортье. Ни для кого не было сюрпризом, когда режиссер Дмитрий Черняков огласил решение присудить Мортье премию Дягилева посмертно, денежный фонд пойдет на перевод и издание книги "Драматургия одной страсти" авторства великого интенданта.
Следом за церемониальной частью премии зрителей ждала мировая премьера ультрасовременной оперы "Носферату", написанной композитором—ниспровергателем привычных представлений о музыке Дмитрием Курляндским и утонченным поэтом-либреттистом Дмитрием Яламасом, поставленной двумя Теодорами — дирижером-новатором Курентзисом и тотальным режиссером Терзопулосом (подробнее см. "Ъ" от 19 июня). Размышлением о смерти другого толка стало исполнение оркестром musicAeterna под управлением Курентзиса "Зимнего пути" — сочиненной интерпретации для тенора и камерного состава Ганса Цандера, которая сопровождалась снятой режиссером Алексеем Романовым одноименной кинопоэмой с претензией на артхаус. То на экране в духе школьной работы по информатике полз каллиграфическим почерком написанный текст стихов Мюллера, то разворачивалась кислотная презентация молекулярного мира и Вселенной, а похождения и тернистый путь страданий главного героя, скуластого мятежного юноши, показаны с обыденностью домашнего порно. Эстетизация безобразного сложилась в неловкий грязный декаданс, тогда как исполнение вокальной партии австралийским тенором Стивом Дэвислимом достигло психологических высот.
В качестве отдохновения от напряжений начальных дней на сцене театра случился визуально богатый "Барочный карнавал". Название, настраивающее на восприятие шедевров высокого барокко, оказалось обманкой — французский ансамбль Le Poeme Harmonique, известный во всем мире безупречным аутентичным исполнением музыки барокко и позднего ренессанса, лишь аккомпанировал ярмарочному динамичному балагану в духе средневековых зрелищ с акробатами, жонглерами и шутами. Комичные карикатуры на отдых аристократов сменились разудалыми пластическими этюдами в духе "Цирка дю Солей". По-французски заводной и остроумный спектакль органичнее смотрелся бы не в театре, а именно на площади, где такого рода представления с казнями, пирушками и потасовками и давали в ту эпоху.
Выставки, симпозиум, балет, современная опера по соседству с клавирабендами и этно-рок-концертом — таково разнообразие Дягилевского фестиваля, а завершится все выступлением фестивального оркестра, который исполнит Третью симфонию Густава Малера. Еще в преддверии открытия энергичный Теодор Курентзис обмолвился, что его мечта — "сделать Дягилевский фестивалем премьер, наполнить его тем, чего еще не было ни в России, ни в Европе" — вполне себе дягилевское устремление, благо что и потенциал имеется.
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023