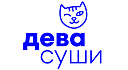27 апреля 2024
Сегодня
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
07.04.2021
Что такое опера? Четыре эссе о природе жанра
Отвечают композиторы Дмитрий Курляндский и Сергей Невский, критики Алексей Парин и Михаил Мугинштейн
К сожалению, поиск новых берегов временами заводит не туда. Показательна ежегодная анкета не страдающих консерватизмом критиков в авторитетном немецком журнале Opernwelt (Jahrbuch 2017). Почти одна треть голосов в категории «Разочарование года» касалась отдельных режиссерских работ, в том числе «за постдраматический отказ от интерпретаций, за то, что слишком настойчиво старались найти пустые эффекты, за претенциозное и слабое стремление актуализировать произведение». Режиссерский театр постарел: «всеобщая неуверенность… выражается в оперном мире путем смешения сценических почерков, которые все больше ощущаются как случайные, эпигонские, повторяющиеся или ретроспективные».
В общем, время смутное, и оперное человечество смутилось. Самое время вспомнить прозрение Мусоргского: «художественное обличение духа времени требует, возможно, редкого напоминания обществу современного его интересам (общества) склада, характера речи и способа выражения, — чем скрытнее и чище истинный, а не видимый только горизонт — тем легче и цельнее воспримет и вдохновится общество».
Эти эссе были впервые опубликованы в буклете пермской премьеры «Дон Жуан» (режиссер Марат Гацалов, дирижер Артем Абашев).
Ближайшие показы спектакля состоятся 29 и 30 апреля.
Купить билеты

Дмитрий Курляндский
композитор
История оперы — это история оперных реформ, постоянный пересмотр того, что принято называть оперой. Таким образом, сочинение оперы — каждый раз сочинение того, что есть опера. Этот жанр оказывается одним из самых пластичных и изменчивых, он как будто сопротивляется затвердеванию, ускользает от определения. Опера — это то, что композитор решает назвать «оперой». Это может быть сольная инструментальная пьеса («Опера для флейты соло» Шаррино) или перформанс с объектами («Опера с объектами» Люсье) — и в то же время большая театрализованная форма с пением, оркестром и декорациями. Если композитор называет оперой то, что не укладывается в формальные принятые рамки жанра — он, очевидно, предлагает воспринимать его сочинение в перспективе оперной традиции, в диалоге с ней — более или менее остром или радикальном. Не стоит забывать, что слово «опера» означает «труд, дело». И это не только труд композиторский — это еще и приглашение к сотрудничеству зрителя, слушателя, включение его в активный диалог, сотворчество.

Сергей Невский
композитор
Опера отличается от драматического театра прежде всего возможностью рассказывать несколько историй одновременно. В финале первого акта «Дон Жуана» диалог главных героев происходит на фоне трех танцев в разных размерах, звучащих одновременно. У Моцарта это — момент осознанной ирритации слушателя, рафинированной интеллектуальной игры, но уже столетием позже в «Царской невесте» Римского-Корсакова или — еще через 60 лет — в «Солдатах» Циммермана подобного рода полифоничность рассказов, не коммуницирующих между собой, становится базовой техникой повествования. За последние двести лет наша способность выстраивать цельную картинку из разнородных и одновременно протекающих сюжетов многократно усилилась. С другой стороны, — и в этом парадокс нынешней ситуации — современные техники композиции значительно усложнили саму возможность понимания текста. Поэтому композиторы сегодня нередко сокращают абзац либретто до нескольких ключевых фраз либо обращаются к мелодекламации. Сложность современного языка ограничивает нашу способность сопереживать эмоциональному состоянию героев, и поэтому, чтобы не затеряться в собственных поисках смысла, авторы опер часто обращаются сегодня к тому же источнику, из которого опера питалась в самом начале своей истории: к мифу. Мифом может быть историческое событие («Три истории» Райха), им может быть шедевр кино (Lost Highway Ольги Нойвирт) или великая поэзия и философия, сведенная автором в причудливый коллаж («Прометей» Ноно). Таким образом, удачная опера сегодня часто сочетает общеизвестность, архетипичность, узнаваемость сюжета и необычную технику его воплощения.

Алексей Парин
театровед, музыкальный критик, поэт,
либреттист, переводчик, редактор
Что такое опера? Она заменяет нам процесс познания — освоения мира и самих себя? Или она стала заменой религии, то есть образует такое время и такое пространство, где мы соотносимся с чем-то высшим?
Человек становится всё сложнее, в нем возникают новые, неизведанные слои. Композитор вторгается в это «невыразимое». Дирижер вытаскивает всё самое спрятанное наружу, пестует его, вкладывает зрителю в уши. Режиссер тем или иным способом превращает всё в человеческое действо, в игру воль и зависимостей. Певцы выворачивают себя наизнанку, чтобы всё стало хоть как-то понятным.
Опера, одна опера, только опера единственная может нам ответить на все самые сложные вопросы. Нет, не ответить. Она может стать попыткой заглянуть нам в души, докопаться до самого страшного и самого достойного, она может из глубин мира вытащить такие тайны, какие нам даже в страшных снах не снились. Или вдруг представить всё самое лучшее, что мы даже сами не всегда внутри себя распознаём.
Каждый раз, когда гаснет свет и открывается занавес, мы надеемся, что после этой хорошо организованной магии мы станем другими, лучше или хуже, отважнее или покладистей, возвышеннее или проще. Так и происходит всегда, если нам дают «правильную» оперу.

Михаил Мугинштейн
музыковед, историк,
теоретик и критик оперного искусства
К сожалению, поиск новых берегов временами заводит не туда. Показательна ежегодная анкета не страдающих консерватизмом критиков в авторитетном немецком журнале Opernwelt (Jahrbuch 2017). Почти одна треть голосов в категории «Разочарование года» касалась отдельных режиссерских работ, в том числе «за постдраматический отказ от интерпретаций, за то, что слишком настойчиво старались найти пустые эффекты, за претенциозное и слабое стремление актуализировать произведение». Режиссерский театр постарел: «всеобщая неуверенность… выражается в оперном мире путем смешения сценических почерков, которые все больше ощущаются как случайные, эпигонские, повторяющиеся или ретроспективные».
В общем, время смутное, и оперное человечество смутилось. Самое время вспомнить прозрение Мусоргского: «художественное обличение духа времени требует, возможно, редкого напоминания обществу современного его интересам (общества) склада, характера речи и способа выражения, — чем скрытнее и чище истинный, а не видимый только горизонт — тем легче и цельнее воспримет и вдохновится общество».
Эти эссе были впервые опубликованы в буклете пермской премьеры «Дон Жуан» (режиссер Марат Гацалов, дирижер Артем Абашев).
Ближайшие показы спектакля состоятся 29 и 30 апреля.
Купить билеты
Посмотреть ещё