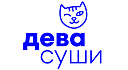20 апреля 2024
Сегодня
21 апреля 2024
22 апреля 2024
23 апреля 2024
24 апреля 2024
25 апреля 2024
26 апреля 2024
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
02.03.2021
Ваш голос учтен. Пермская опера презентовала хор Parma Voices
Похоже, этому театру суждено быть в авангарде. И успех эпохи Курентзиса, и кризис ее отмены, и остановка культурной жизни пандемией – все это просто внешние обстоятельства, в которых проявилось особое, если не сказать «природное», свойство Пермского театра – его внеситуативная витальность. В таком случае объяснимо возникновение хора именно сейчас, когда многие коллективы и даже устойчивые институции по всему миру «встали на паузу» и когда риски остаются актуальными; к сказанному можно добавить, что после кадровых турбулентностей и годового оцепенения театр все еще начинает жизнь с чистого листа и ситуация риска здесь привычна.
Новый коллектив Parma Voices сформирован из артистов театрального хора и продолжает важный для Пермской оперы филармонический вектор развития – год назад его обозначили созданием Камерного оркестра. Название Parma Voices отражает вокальную природу коллектива и его принадлежность к месту, ведь «Пармой», как известно, в древности называли земли Пермского края. Хор планирует исполнять музыку разных эпох и стилей, в первую очередь авангардные опусы ХХ века и незаслуженно забытые духовные сочинения.
По всей видимости, репертуарные замыслы хора – результат даже не столько рационального планирования, сколько тонкого понимания музыкальных процессов художественным руководителем коллектива, дирижером Евгением Воробьёвым. Так, в философском комментарии к программе концерта-презентации он не объясняет выбор тех или иных сочинений, а размышляет о вторичности рациональных действий, не напрямую связанных с исполнением музыки. «Характеризовать выбранные опусы, – пишет Воробьёв, – неочевидное занятие. В идеальном мире составление программы определяется интенсивным музыкальным переживанием». Возможно, именно «музыкальное переживание» (а не умозрительная концепция) повлияло на программу концерта-презентации, все сочинения которой, вопреки заявленной всеохватности, были связаны с религиозной тематикой. Тем не менее это не отменило стилистического разнообразия, да и возможности пермского хора настолько обширны, что музыка в его исполнении может говорить сама за себя и не опираться на программный «костыль».
Барочную выразительность сменила статика «индуистских» песнопений, Ян – Инь, мужской хор – женский. В начале ХХ века английский композитор Густав Холст перевел с санскрита религиозные гимны Индии и сочинил к ним музыку, не похожую вообще ни на что. Экзотическое содержание его Хоровых гимнов из «Ригведы» органично сочетается с позднеромантическим музыкальным модусом и ритмическими изысками, но причудливо диссонирует с упругостью английского языка и с эмоциональным напором британского музыкального фольклора. В исполнении женского хора гармонические красоты партитуры Холста обнаружили свою земную природу разве что в предательски тянущихся, иногда сипловатых верхах. Создавая воздушную подушку для хора и имитируя звучание, вероятно, сантура – индийских гуслей, Кристина Басюл буквально сплела «арфовый» фортепианный аккомпанемент (Холст предполагал здесь арфу, но не исключал и рояль).
В кульминации полный состав хора исполнил Духовный концерт Николая Сидельникова. Сочинение, возникшее в 1990 году, отсылает к православной литургии, при этом оно до крайности экспрессивно. Динамические нагнетания и спады, диссонирующие созвучия, сложные ритмы, голоса, уверенно выплывающие словно из ниоткуда, – вся эта прихотливость Parma Voices удается особенно хорошо. В какой-то момент над застывшей гладью хора воспарило пронзительное и глубокое сопрано Юлии Сучковой, увенчав первое отделение катарсическим соло. Месса швейцарского композитора Франка Мартена, прозвучавшая после антракта, лишь подтвердила неслучайность успеха и, если угодно, швейцарское качество Parma Voices.
Текст: Мария Невидимова, «Музыкальная жизнь»
Новый коллектив Parma Voices сформирован из артистов театрального хора и продолжает важный для Пермской оперы филармонический вектор развития – год назад его обозначили созданием Камерного оркестра. Название Parma Voices отражает вокальную природу коллектива и его принадлежность к месту, ведь «Пармой», как известно, в древности называли земли Пермского края. Хор планирует исполнять музыку разных эпох и стилей, в первую очередь авангардные опусы ХХ века и незаслуженно забытые духовные сочинения.
По всей видимости, репертуарные замыслы хора – результат даже не столько рационального планирования, сколько тонкого понимания музыкальных процессов художественным руководителем коллектива, дирижером Евгением Воробьёвым. Так, в философском комментарии к программе концерта-презентации он не объясняет выбор тех или иных сочинений, а размышляет о вторичности рациональных действий, не напрямую связанных с исполнением музыки. «Характеризовать выбранные опусы, – пишет Воробьёв, – неочевидное занятие. В идеальном мире составление программы определяется интенсивным музыкальным переживанием». Возможно, именно «музыкальное переживание» (а не умозрительная концепция) повлияло на программу концерта-презентации, все сочинения которой, вопреки заявленной всеохватности, были связаны с религиозной тематикой. Тем не менее это не отменило стилистического разнообразия, да и возможности пермского хора настолько обширны, что музыка в его исполнении может говорить сама за себя и не опираться на программный «костыль».

Фото: Андрей Чунтомов
Полсотни хористов нового коллектива звучат с прямо-таки ансамблевой ответственностью. Чистая интонация, осмысленная фразировка, внятные начала и снятия, собранная артикуляция с единовременным произнесением согласных, оберегающим хор от превращения в «сплошную шипящую», тонкая нюансировка в динамике и штрихах – технический «иммунитет» Parma Voices поразителен и объясняет музыкальную жизнеспособность монолитной программы из четырех многочастных хоровых полотен. Лаконично подобранные, не самые расхожие хоровые опусы охватили сравнительно небольшой 150-летний период в истории музыки, но стилистически переправили и к более ранним временам. Например, барочная полифония в «Респонсории и гимне» Мендельсона – дань романтика Баху, не просто «кумиру» композитора, а невыразимо больше. Редкое сочетание глубоких, фундаментальных басов и некричащих теноров – это без преувеличения тембровая драгоценность хора. Мужские голоса, подсвеченные continuo контрабаса и виолончели (Дилявер Менаметов и Игорь Бобович), проявились одинаково слитно, насыщенно и в полифонических переплетениях, и в орнаментальных tutti и, что немаловажно, не пустили на самотек ясность латинского текста.Барочную выразительность сменила статика «индуистских» песнопений, Ян – Инь, мужской хор – женский. В начале ХХ века английский композитор Густав Холст перевел с санскрита религиозные гимны Индии и сочинил к ним музыку, не похожую вообще ни на что. Экзотическое содержание его Хоровых гимнов из «Ригведы» органично сочетается с позднеромантическим музыкальным модусом и ритмическими изысками, но причудливо диссонирует с упругостью английского языка и с эмоциональным напором британского музыкального фольклора. В исполнении женского хора гармонические красоты партитуры Холста обнаружили свою земную природу разве что в предательски тянущихся, иногда сипловатых верхах. Создавая воздушную подушку для хора и имитируя звучание, вероятно, сантура – индийских гуслей, Кристина Басюл буквально сплела «арфовый» фортепианный аккомпанемент (Холст предполагал здесь арфу, но не исключал и рояль).
В кульминации полный состав хора исполнил Духовный концерт Николая Сидельникова. Сочинение, возникшее в 1990 году, отсылает к православной литургии, при этом оно до крайности экспрессивно. Динамические нагнетания и спады, диссонирующие созвучия, сложные ритмы, голоса, уверенно выплывающие словно из ниоткуда, – вся эта прихотливость Parma Voices удается особенно хорошо. В какой-то момент над застывшей гладью хора воспарило пронзительное и глубокое сопрано Юлии Сучковой, увенчав первое отделение катарсическим соло. Месса швейцарского композитора Франка Мартена, прозвучавшая после антракта, лишь подтвердила неслучайность успеха и, если угодно, швейцарское качество Parma Voices.

Фото: Андрей Чунтомов
Или, быть может, «таежное качество»? Во времена Курентзиса всемирную известность Перми принесли постановки опер Моцарта, благодаря которым появилась популярная метафора: «таежный Моцарт». Однако пермский «таежный Моцарт» – явление вовсе не исчезнувшее вместе с ушедшей эпохой. Дело уже, конечно, не в самом Моцарте, а в ореоле брендированности, окружающем его фамилию, особенно на родине композитора. «Моцарт» – это адаптированный к Уралу культурный бренд, маркирующий «европейскость» качества (или, по крайней мере, наши устойчивые представления о таковом). Отождествление «тайги» – можно сказать, российского национального бренда – с условным европейским «Моцартом» точнее всего описывает «особый путь» Пермской оперы, где и теперь возможно возникновение таких высокопрофессиональных коллективов, как Parma Voices.Текст: Мария Невидимова, «Музыкальная жизнь»
Посмотреть ещё