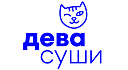25 апреля 2024
Сегодня
26 апреля 2024
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
04.10.2011
Музокно: Смысловое единство видимого и слышимого
Такого Моцарта у нас ещё не слышали: Теодор Курентзис вместе со своим оркестром MusicAeterna и приглашёнными солистами европейского класса осуществил в Перми постановку Cosi fan tutte («Так поступают все»). Перфекционизм – вот первое слово, приходящее на ум в связи с премьерой. Главной драгоценностью новой постановки Cosi fan tutte в Перми стал именно звук – звучание хора и оркестра MusicAeterna, усиленного приглашёнными из Европы музыкантами и оснащённого исторически достоверными инструментами (типа лютни и хаммерклавира, струнных с жильными струнами и натуральных валторн). А ещё – восхитительный, завораживающий, отшлифованный до мельчайших изгибов фразировки и дыхания вокал.
Теодор Курентзис, собравший на премьерные показы практически идеальный двойной состав исполнителей, выставил в первый вечер барочную виртуозку Симону Кермес (Фьордилиджи) и шведку Марию Форсстрём (Дорабелла). Их изысканное, слегка приглушённое, лишённое даже намёка на форсировку пение оттенялось богатейшим сопрано Анны Касьян в партии камеристки Деспины – с «роковыми» низами и подвижными звонкими верхами. Во второй день та же Касьян выступила уже в роли Фьордилиджи, и решительно невозможно было определить, какая роль шла ей больше. Она была равно хороша в оба вечера: страстная, живая, непосредственная, темпераментная.
Второй состав почти не уступал первому, даже в чём-то оказался интереснее. Дорабелла – ведущая солистка Пермской оперы Надежда Бабинцева, Дон Альфонсо – обнаруживший недюжинный комический дар вальяжный баритон Гарри Агаджанян, Гульельмо – Максим Аниськин (хотя, пожалуй, Бретт Полегато в первом составе выглядел органичней), в партии Феррандо – бессменный в обоих составах петербургский тенор Станислав Леонтьев, недавно принятый в труппу Мариинского театра. Леонтьев демонстрировал похвальную стабильность голоса. Пел он искренне, тепло, покорив сразу же, с первой арии Un’aura amorosa.
Вообще, во втором составе голоса оказались крупнее, звучнее, ярче. Непривычные к европейской сдержанности, певцы не могли и не хотели приглушать голоса. Зато звезда первого состава Симона Кермес пела Моцарта изысканнее. Она казалась скорее чувствительна, чем страстна, скорее ранима, чем гневна. Они с Касьян были очень разные Фьордилиджи: Касьян – огонь и пламя, от Кермес веяло прохладой и томностью.
Если же слегка отодвинуться от непосредственных впечатлений и вдуматься, что совершил Курентзис и его сплочённая команда на уральских просторах, то иначе как подвигом это деяние не назовёшь. Культуртрегерские амбиции дирижёра, помноженные на яростную устремленность к высокой художественной цели, сплотили вокруг него музыкантов, по-настоящему увлечённых профессией. И дело отнюдь не только в высоких зарплатах и хороших условиях жизни его оркестра MusicAeterna. Курентзис заражает всех, попавших в его орбиту. В нём совершенно отчётливо проявлены лидерские качества, пресловутая харизма личности. Чело озарено ореолом миссионерства, глаза горят нездешним огнём. Он действительно уверен, что несёт свет истины о Моцарте людям. И ведь прав: повторюсь, такого Моцарта у нас в стране никто ещё не слышал и не играл. Да и в Европе, если честно, так досконально понимают и преподносят моцартовские партитуры единицы: ну, скажем, Дэниел Хардинг или Айвор Болтон.
Его команда пришла в Пермский оперный как варяги, нелюбимые чужаки. И сразу задала такую высокую планку исполнительства и администрирования, что даже буклет, созданный к премьере, воспринимается как произведение искусства: он искусно погружает в контекст эпохи, выстраивает ассоциативные ряды, сопрягает литературные сюжеты и стили, подавая тему с разных ракурсов. Если рассуждать совсем уж по гамбургскому счёту, недостаёт очерка, посвящённого собственно музыке Моцарта, ретроспективного обзора лучших постановок Cosi в мире, ну и хронографа, пожалуй.
Западный, по-хорошему деловой стиль и ритм работы – вот что привнесла в Пермский театр команда Курентзиса. И это чувствовалось по атмосфере, царящей в театре. И даже в том, как добротно были сделаны декорации, как работал свет, какие были костюмы: роскошные, из дорогих тканей, совсем не театральные, судя по тщательности отделки.
Костюмы, как и декорации, создавал Штефан Дитрих – тот, что стал известен в России после того, как «одел» героев «Бориса Годунова» Маттезона, оперы, поставленной в рамках фестиваля Earlymusic в Гамбурге и в Петербурге. Тяжёлые атласы пышных кринолинов; воздушная кисея пеньюаров; затейливые причёски дам и мягкие, ниспадающие складки бурнусов усатых псевдоалбанцев. Герои были вписаны в красочную «картинку» итальянской виллы, как в дорогую раму. Терракотовые стены, стройные колонны, в оконных проёмах синеет яркое неаполитанское небо. Одинокая пиния виднеется за распахнутыми дверями, ведущими на веранду. А в зале резвятся две сестры, аристократки из Феррары, хохотушки-поскакушки, прижимая к груди овальные портреты своих возлюбленных.
Режиссёр Маттиас Ремус, приглашённый из Ганновера, придумал на первый взгляд простое и вполне предсказуемое решение. Главным его достоинством оказалось изящество мизансцен и абсолютное стилистическое соответствие музыкальной интерпретации Курентзиса. Поначалу постановка кажется излишне традиционалистской. Но вскоре обнаруживаются очаровательнейшие нюансы, демонстрирующие глубокую степень погружения режиссёра в моцартовский текст – слегка фривольный и гривуазный по тону, галантный – по выражению.
За драматургию, за смысловое единство видимого и слышимого, безусловно, отвечал дирижёр. Он выстраивал темпоритм спектакля – и получалось очень убедительно. Темпы он задавал зачастую зашкаливающе быстрые – как в увертюре, где флейты даже не всегда справлялись с партией. Или, напротив, томительно-медленные – и это было очень красиво. Певцы мастерски филировали звук, демонстрируя непоказное, истинное владение барочной техникой пения.
А ещё дирижёр пользовался богатейшей палитрой штрихов: все эти parlando, staccato, придающие остроту речевой интонации, неожиданные, парадоксальные акценты на слабой доле весьма оживляли течение музыкальной мысли и подстёгивали внимание.
Кто-то, конечно, может сказать, что оркестр, хор и солисты просто хорошо выучили, отрепетировали и исполняют Моцарта. Однако детали, коими было испещрено исполнение, выдавали глубинную и осмысленную работу дирижёра над партитурой: похоже, Курентзис изучал её с лупой в руке. Он обнажал саму структуру моцартовского текста. Ему помогало умение слегка утрировать сменяющиеся в опере аффекты: печаль, томление, влечение, гнев – всё было немножко чересчур. И это «вдруг» придавало опере отчётливо комическое измерение: страсть и юмор, остраняющий происходящие события, шествовали рука об руку в этой удивительной постановке. Не случайно в буклете был сделан акцент на «наблюдении», «подглядывании» за героями: этот аспект оперы был подчёркнут и развит Курентзисом исключительно музыкальными средствами.
В общем, первый постановочный опыт Курентзиса в Перми оказался удачен. Впереди – громадьё планов: грандиозный Дягилевский фестиваль, который решено сделать ежегодным и на котором в мае ожидается выступление легендарного Ensemble Intercontemporain, созданного Пьером Булезом, а также приезд Паскаля Дюсапена, одного из ведущих композиторов Франции. В сезоне 2012/2013 решено поставить вторую часть «Трилогии Моцарта – Да Понте» – «Свадьбу Фигаро», пригласив на постановку Филиппа Химмельмана (копродукция с фестивалем в Баден-Бадене). А в сезоне 2013/2014 – «Дон Жуана». Предположительно, ставить его будет Питер Селларс в содружестве с Георгием Цыпиным (копродукция с мадридским театром Real)
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023