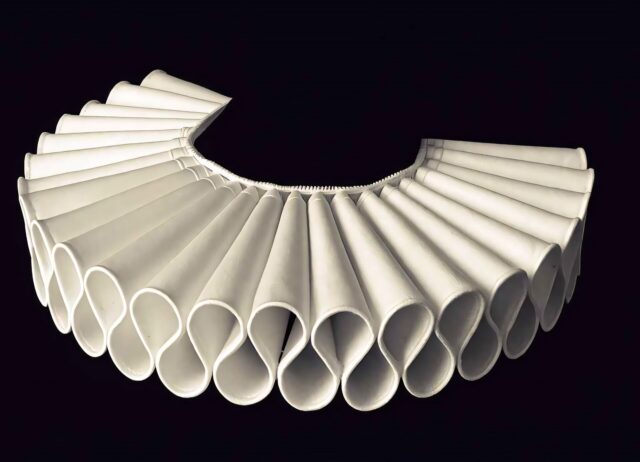Визионер и романтик, энтузиаст «исторически информированного исполнительства», равно увлеченный Моцартом, Рамо и Малером — таков Теодор Курентзис. Один из самых ярких представителей новой генерации петербургской дирижерской школы, природный грек, успешно интегрировавшийся в российские культурные реалии, он уже получил значительную известность в Европе. Успел поработать в Париже, Мадриде и Цюрихе, приглашался на фестивали в Баден-Бадене, Берлине и Зальцбурге. Сегодня его любимое дело — Дягилевский фестиваль, проводимый на базе Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет уже несколько лет. Мы встретились с Теодором во время напряженного фестивального марафона, в его кабинете, заваленном подушками и устланном персидскими коврами, как покои какого‑нибудь богдыхана. Что вовсе не помешало нам в беседе касаться предметов сугубо серьезных и практических.
— Твоя деятельность в Перми и в мире настолько разнопланова, что вопросы трудно даже систематизировать. Начнем, пожалуй, вот с чего. Дягилевский фестиваль уже набрал такой размах, что Пермь все чаще стали называть «русским Зальцбургом». Я понимаю, что до Зальцбурга вам далеко — и по протяженности, и по финансам. Бюджет Зальцбургского фестиваля составляет без малого 60 млн евро. Но как ты лично относишься к таким определениям? Вы всерьез думаете, что может сделать в Перми фестиваль, по масштабу сравнимый с Зальцбургом?
— Зальцбургский фестиваль неоднозначен. Город Зальцбург связан в большей степени с именем Моцарта, нежели с фестивалем. Думаю, если и уместно сравнение Дягилевского фестиваля с Зальцбургским — то только времен Жерара Мортье. Он за 10 лет своего интендантства перетряхнул консервативный фестиваль, сделал его гораздо более провокативным, демократичным, авангардным.
Но, я думаю, фестиваль в Перми — не просто двухнедельный праздник, когда в город приезжают отличные музыканты, певцы, ансамбли, привозятся самые нашумевшие спектакли из Европы. Мне бы хотелось, чтобы отзвуки Дягилевского фестиваля присутствовали и во время обычного сезона, чтобы фестиваль имел долгий резонанс. Не только в культурной жизни Перми, но и в стране.
Я иногда говорю ребятам: по‑хорошему, так, как у нас протекает фестиваль, должен идти весь сезон. Чтобы каждые две-три недели театр представлял новую премьеру. Идея, конечно, утопическая. Потому что для ее реализации требуется колоссальный бюджет. Кроме того, публика пермская не готова ходить в оперный театр каждый вечер, как она это делает во время фестиваля. В течение сезона обычный зритель приходит в театр, в лучшем случае — раз в неделю, а в худшем — вообще не приходит. Фестивальная атмосфера — пресс-клуб, творческие встречи, дискуссии, концерты — это, конечно, увлекательно. На фестивале мы представляем новое, оригинальное, нестандартное. Но Пермский оперный театр — репертуарный. Это означает, что у нас сохраняются двадцать спектаклей, мы не можем их все разом снять с репертуара и заменить новыми. Для этого требуются время и ресурсы. Но статистика показывает, что старые спектакли публику не собирают. Зато когда мы ставим современную оперу — типа «Носферату» Курляндского — зал забит битком.
— Может, потому что «Носферату» вы показываете всего раза три…
— Но мы и старые спектакли показываем по три раза — народ же не приходит на них. Зато на все моцартовские спектакли — «Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины» — переаншлаги. То есть публика всегда приходит на выступления оркестра и хора MusicAeterna. Значит, практика stagione, когда играешь подряд по семь-десять спектаклей, и на каждый из них зал полностью распродан — себя оправдывает. А почему? Потому что в этом случае мы выдаем исключительно высокое качество исполнения.
— Но что мешает театру перейти на систему stagione? Можно же сделать «шаг» цикла не в две недели, а, скажем, в месяц. Раз в месяц проходит одна серия спектаклей, во второй — другая. Потом опера берет паузу; начинается серия балетных спектаклей.
— Я тоже считаю, что хорошие проектные спектакли должны идти блоками. Пока один состав играет один блок, второй состав репетирует другие спектакли. Эта система имеет преимущество, потому что при ней заметно повышается сценическое и музыкальное качество. В Перми — городе-миллионнике — народ не готов ходить в театр чаще раза в неделю. Мы можем предложить ему на один месяц — одну комбинацию спектаклей. На следующий — другую.
— Но тогда возникает проблема, чем занять постоянную, основную труппу театра. Ведь то, о чем ты говоришь — это проектные спектакли, с приглашенными «звездами», с оркестром MusicAeterna, наполовину составленном из столичных и западных музыкантов.
— Что касается основного оркестра и постоянной труппы — то я вижу, какими темпами они развиваются. Музыканты оркестра стали играть заметно лучше. На открытии меня просто порадовали, когда играли Стравинского. Сейчас мы взяли в оркестр молодых музыкантов, так как заинтересованы в повышении уровня постоянного оркестра. К тому времени, когда будет построено новое здание театра, я надеюсь, мы будем иметь уже два качественных оркестра и готовый репертуар, чтобы заполнить обе площадки.
— Но когда будет построена вторая сцена? При нашем‑то российском долгострое даже «Мариинку-2» строили 10 лет…
— Сейчас в Перми активно лоббируют строительство нового театра. Я думаю, через два года он будет готов.
— А старое здание?
— Старый театр закроют только на три месяца, будут проводить реконструкцию. На эти три месяца труппа уедет на гастроли, потому что когда позади основного здания выроют котлован для второй сцены, работать тут будет невозможно. Я рад, что ты понимаешь преимущества системы stagione. Потому что многие люди и в Министерстве, и в комитете по культуре не понимают, что при репертуарной системе мы играем старые спектакли, ставим «галочки» для плана — а музыкальное качество спектаклей оставляет желать лучшего. Нельзя играть двадцать оперных названий в месяц, и при этом сохранять качество.
— Но в Германии, например, все театры репертуарные — и ничего, вполне неплохое качество выдают…
— Не всегда. Я немного знаком с тем, как работают немецкие театры. Во всех крупных театрах есть два оркестра и два состава в спектаклях. Они играют очень по‑разному. И случается большой «раскосяк» в качестве исполнения. Я, например, знаю, что в Баварской Опере некоторые оркестранты впервые играли спектакль «Макбет» безо всяких репетиций. Через два-три спектакля всё приходит в норму, начинает что‑то получаться. Именно поэтому многие критики предпочитают приходить на второй или третий спектакли, хотят услышать лучший результат, когда люди уже сыграются и «споются». Поэтому я все‑таки предпочитаю французскую систему: репетировать и играть спектакль с одними и теми же людьми. И тогда ты выходишь с ними на премьеру, как на праздник. А через сезон-второй можно этот спектакль возобновить, и снова показывать.
— У вас театр местного подчинения?
— Да, мы подчинены Министерству культуры Пермского края. Конечно, нам не запрещают перейти на систему stagione: это лучше для кассы и лучше для качества. Но тогда нужен другой бюджет. У нас — для сравнения — годовой бюджет ровно в сто раз меньше, чем у Большого театра.
— Зато у вас есть надежные спонсоры, разработана система фандрайзинга, в которой работают молодые шустрые ребята…
— Как говорил Жерар Мортье: «Денег у нас немного, но мы правильно их тратим…» Да, мне повезло с командой: и Марк де Мони, и Галина Полушкина, наш исполнительный директор, все очень хорошо работают. У нас есть надежный партнер и спонсор — фирма «Прогноз». Конечно, от города мы тоже кое‑что получаем. И тут мне бы хотелось особо подчеркнуть одну мысль. Я считаю, что власть каждого города должна понимать, чем этот город особенно примечателен, что делает его особенным. Если у тебя есть нефть — ты продаешь нефть, и это город нефтяников. Если ты выращиваешь пшеницу — значит, это «пшеничный» город и этим интересен. Но если в городе есть оперный театр — надо делать ставку на него. Творческий, активно работающий оперный театр превращает любой, даже самый маленький и провинциальный город — в столицу. А Пермь была губернским городом, с богатой историей и культурой, и таким город должен оставаться и сегодня. Но для того, чтобы это понимать, чтобы понимать ценность культуры, ценность того, что мы делаем, люди должны иметь некий кругозор, образование, хотя бы привычку ходить в театр. То есть в министерствах культуры должны сидеть люди, которые в своей жизни хоть раз побывали бы на крупных международных фестивалях, на оперных спектаклях не только в своем родном городе — но и в мировых столицах музыки — в Берлине, в Мюнхене, в Вене. Чтобы они могли судить о положении дел не изнутри, а иметь некую внешнюю точку отсчета, материал для сравнения. Если у людей, принимающих решения в сфере культуры, нет культурной осведомленности, кругозора, «наслушанности» — как они могут принимать правильные решения? Получается, что те, кто знает, как должно правильно всё устроить — не могут принимать решения. А те, кто принимает решения — не имеют представления о том, как это должно быть устроено. Такой вот парадокс.
— Добавлю от себя: в нашей стране отсутствует понимание того, что культура есть системообразующий фактор, который стимулирует развитие города и всех сфер человеческой деятельности. Приведу пример: в Лондоне собрались, в целях экономии, закрыть несколько театров. Театры, чтобы воспрепятствовать этому решению, собрали интересную статистику. По ней выходило, что в тех районах, где открывались новые театры, очень быстро начинали появляться кафе, рестораны, магазины, отели, стоянки для машин — вся инфраструктура. Эти заведения начинали приносить доходы в городскую казну, в виде налогов. А бывший депрессивный район переставал быть депрессивным. Вот бы сделать аналогичную статистику у вас, в Перми?
Однако я думаю, самое время переключиться и поговорить о твоем уникальном хоре MusicAeterna — или лучше называть его вокальным ансамблем? Ребята поют невероятно красиво, просто завораживающе. Я помню, какое впечатление они произвели на питерскую публику весной, когда вы приезжали и выступали в БЗФ, в рамках «Великопостных концертов». Как ты добиваешься такого звучания? Что ты им говоришь? Что вкладываешь в их головы, что они поют так сокровенно? Это уже даже не вполне пение, но что‑то вроде духовной практики…
— Стратегия работы другая. Во-первых — я их друг, а не начальник. Мы ходим друг к другу в гости, отмечаем дни рождения, все делаем сообща. Между нами нет дистанции, границы.
Ты упомянула о духовных практиках. Да, мы много говорим с ними о философии, о музыке, вместе медитируем, устраиваем мастер-классы барочных танцев, проводим занятия йогой, привозим выдающихся режиссеров — специально для занятий с ними. Ты не представляешь, сколько времени вложил Питер Селларс, чтобы добиться плавных синхронных движений рук ансамбля во время пения, при постановке «Королевы индейцев» Пёрселла! Все эти занятия повлияли не только на то, как они поют. Они стали иначе одеваться, держать себя; у них изменилось миропонимание, представление о ценностях. Они изменились личностно. Но важна и персональная работа с каждым вокалистом и солистом. И так получается, что каждый человек в ансамбле — уникален, он — личность.
Я вообще мечтаю о театре, куда люди приходили бы не просто работать, но искать себя. И становиться счастливыми в этом поиске. Мы приходим в театр — и ждем, что он изменит нас. Поэтому если мы идем на спектакль или концерт — и с нами ничего не происходит, мы слышим лишь то, что ожидали услышать — мы зря тратим два часа нашей жизни.
Озарение приходит неожиданно. Как и настроение, его невозможно предсказать или подготовить. Вдруг ты что‑то почувствуешь, что‑то клюнет в темечко — и у тебя все получилось хорошо. Но есть и метафизическая сторона; бывает, что и озарение не посетило, и настроение не очень. Но вдруг — раз, и что‑то переключилось, щелкнуло в голове, и пошел этот энергетический поток. Ты никогда не знаешь, когда это случится. Так многие люди приходят вечером на концерт, ничего особенного не ожидая — и вдруг случается что‑то особенное. И наоборот тоже бывает.
В этом и заключается магия пространства и времени нашей жизни: все течет, все изменяется. Мы никогда не можем быть уверенными в чем‑то на все сто процентов. Наши старания, наше движение в жизни всегда под вопросом. Мы можем лишь постараться понять, по каким законам течет жизнь и занять правильное место в этом потоке. Почувствовать этот поток, его направление, внутренние течения — и потихоньку подгребать к ним.
Приведу пример. Раньше я писал песни, типа немецких Lieder. И довольно много их написал. Иногда мне казалось, что я создал шедевр. Иногда некоторые эскизы казались мне ужасными; как‑то не шла работа, и я их откладывал.
Прошло несколько лет. Я как‑то открыл ноты своих шедевральных Lieder и удивился: они показались мне отнюдь не гениальными, это было явное «не то». А потом случайно в какой‑то кладовке нашел свои брошенные эскизы, которые посчитал неудачными: и теперь они показались мне шедеврами.
Шостакович говорил что‑то вроде того, что шедевры могут получаться и без вдохновения. И наоборот, говорят, что влюбленные поэты пишут плохие стихи. Доля правды в этом, безусловно, есть. То, что мы сегодня отмечаем, как хорошее, вовсе не означает, что это будет так же хорошо в будущем.
— Так это любой музыкант знает: нельзя полностью отдаваться эмоциям во время игры — получится пошло, или слезливо, или чересчур выспренне. Это вопрос соотношения интуиции и рацио.
— Я тоже раньше так думал, как ты. Но эта история еще сложнее. В принципе, снискать успех у публики несложно. Заразить людей своим энтузиазмом, объединить в едином порыве публику и оркестр и сорвать аплодисменты. Нужно только выложиться эмоционально на концерте — и будешь иметь успех. Но это «легкий» успех. Знаешь, как старые преподаватели говорили: «Просто сыграй громко последний аккорд — и успех обеспечен».
Но гораздо важнее, как ты сам будешь относиться к своему исполнению через десять лет. И для меня эта формула больше подходит. Когда я что‑то делаю во время репетиции, я мысленно пытаюсь представить, как это будет восприниматься через десять лет, и это мне помогает найти верные ориентиры. То есть необходима некая отстраненность, дистанция с тем, что ты делаешь, для того чтобы верно оценить качество сделанного. Пусть и воображаемая дистанция.
А иногда ты переслушиваешь свои старые записи и думаешь: «Да, сейчас я стал искушенней, хитрее, а тогда был более искренним». В общем, уловить истечения космической энергии, эманации Духа — это самое сложное, когда имеешь дело с музыкой.
— Твой личный опыт — интеллектуальный, эмоциональный, житейский — неизбежно отражается на интерпретации. Сколько ни играй Девятую симфонию Бетховена — каждый раз она будет получаться иначе. Потому что ты сам меняешься со временем.
— Конечно. Но если у тебя нет этой дистанции, трудно оценить, что ты делаешь. Бывает, что в молодости какие‑то вещи играешь лучше, чем в зрелом возрасте. А бывает и наоборот. Взять хотя бы Зубина Мету — его старые записи великолепны.
— Я понимаю, что ты имеешь в виду: с возрастом Зубин Мета будто бы стал более поверхностным. Играет Малера абсолютно гладко, гламурно. Но не всегда; у меня была возможность сравнить его исполнения Пятой Малера с промежутком в пять — семь лет. Так вот, в последний раз он сыграл Пятую Малера в Зальцбурге, и это было очень глубоко. И мудро.
— Мы не закончили, кстати, тему сравнения с Зальцбургом. Сравнения, конечно, дело сомнительное. Начнем с того, что масштаб Зальцбургского фестиваля гораздо больше. Мне ближе сравнение, скажем, с Вупперталем, где работала Пина Бауш. Маленький городок, о котором никто не слышал, пока там не появилась Пина Бауш и не создала свой театр. Точно так же о Перми многие в мире впервые услышали в связи с Дягилевским фестивалем.
— Я знаю, в Пермь стали приезжать музыкальные критики из Британии и Германии — причем ведущие критики. После премьеры «Носферату» сразу вышла рецензия в «The Financial Times» — это, я считаю, большое достижение. Как вам это удалось?
— Записи. Там обратили внимание на наши записи моцартовских опер, и им стало интересно, что это за «пермский феномен». Мы получили премию немецкой и швейцарской критики «Лучшая запись года в опере» за запись оперы Моцарта. Думаю, это и породило интерес к Дягилевскому фестивалю и, в частности, к новой опере Курляндского «Носферату».
— Да, у Курляндского получилась впечатляющая партитура. Очень здорово все сделано. Мрачный спектакль получился, правда; на следующий день, на фестивале еще прошел «Зимний путь»Шуберта / Цендера — тоже ужасно мрачный. Вообще начало фестиваля было полно каких‑то загробных, зловещих аллюзий. Кстати, начало оперы — когда безъязыкий Носферату силится произнести слово, а из горла вырываются лишь сипы и хрипы — ситуативно и сюжетно весьма напомнило мне другую современную оперу — «Дионис» Вольфганга Рима. У Рима главный персонаж обозначен буквой N. Что примечательно: у вас Носферату, на «Н», а у Рима персонаж трактуется двояко — то ли Ницше, то ли Никто. Этот N сипел, мучился от невозможности говорить, тщетно высовывал язык, пока не пришла Ариадна и не приказала ему: «Говори!» Далее последовательно происходит сопряжение вертикали и горизонтали, дионисийского с аполлоническим, вознесение героя Аполлоном и нисхождение его в Аид, мучительное перерождение в поэта — с героя ритуально содрали кожу обезумевшие бассариды… Эти сюжетные ходы очень напоминают ретроспективно вашего «Носферату» — хотя музыка Рима, конечно, абсолютно иного толка.
— Это случайные параллели. Я расскажу, как всё начиналось. Мы с Димитрием Яламасом как‑то сидели на вечеринке, где было полно народу. Заговорили о том, что надо менять поле репертуара… У меня были разные идеи, мы начали обсуждать их, придумали сюжет. Потом Курляндский внес свои поправки.
Конечно, никто из нас не видел спектакля «Дионис». Но тема, вообще‑то, важная. Рождение трагедии из духа музыки — это всегда актуально, и совпадения здесь неизбежны.
— А ты замечаешь, что в наше время мы все чаще обращаемся к базовым понятиям, к пратеатру, праосновам эстетического. Аполлоническое — дионисийское, поэт — муза, речь — язык, рождение языка… По моим наблюдениям, ритуальный театр начинает вытеснять театр гиперреалистический…
— И слава Богу. Потому что театр-ритуал — это самый подлинный театр. Так было изначально.
— Да, такой театр лишен жизнеподобия, отвлекающих бытовых деталей. И именно поэтому оставляет широкое поле для домысливания, множественных интерпретаций, игры воображения. Что поощряет публику к сотворчеству. Впрочем, сценическое решение Терзопулоса не всем понравилось. Но я сочла его вполне адекватным музыке.
— Все, кто ругает спектакль Терзопулоса, имеют отношение к постмодернизму. А постмодернизм — это самый великий враг системы Терзопулоса. Терзопулос работает со специальными техниками, которые позволяют управлять энергиями. Так работал Гротовский. Противоположность Терзопулосу и его эстетике — это, например, Остермайер, с его социальным театром. Такой «новый немецкий театр». А Терзопулос — великий театральный режиссер. Он воздействует синергетически, приглашая тебя совершить путешествие во тьму подсознания; туда, где живет античный театр.