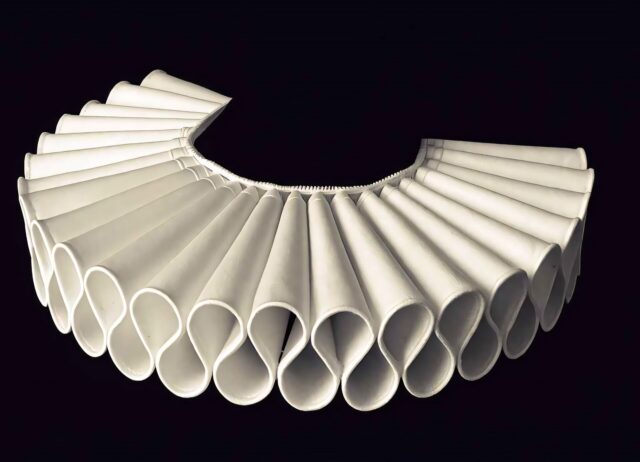24 января один из самых перспективных дирижеров молодого поколения Валентин Урюпин даст свой первый в этом сезоне концерт с Большим симфоническим оркестром Пермского театра оперы и балета. Это будет его пермский дебют в новом качестве: в последнее время он плотно занят в Ростове-на-Дону, где с сентября 2015 года возглавляет Ростовский академический симфонический оркестр. Кроме того, в минувшем декабре он одержал победу на II Всероссийском музыкальном конкурсе среди дирижеров-симфонистов.

В промежутках между репетициями Валентин Урюпин дал большое интервью Наталье Овчинниковой, в котором рассказал о своей дирижерской стратегии, объяснил, что значит для оркестра «планка нижнего уровня», раскрыл подробности своего участия в конкурсе и признался в любви пермским музыкантам.
— В сентябре 2015 года вы возглавили Ростовский академический симфонический оркестр, на эту должность вас порекомендовал Юрий Башмет. Как идет процесс вашего встраивания в систему РАСО?
— Довольно легко. Конечно, любой оркестр — сложный организм, всегда требуется какое-то время, чтобы он принял нового руководителя. Но вот прошло полгода, и это, кажется, уже произошло.
— Вы поняли это по успеху какого-то концерта, событию внутри филармонии или чьим-то наблюдениям со стороны?
— Первая «химия» возникла между нами сразу, когда я туда приехал, еще не будучи главным дирижером и не зная, что меня рассматривают потенциально в этом качестве. Вообще, очень важно, чтобы между дирижером и оркестром сразу сложилось взаимопонимание. Чтобы сумма этих двух слагаемых стала больше, чем сами слагаемые. Уже потом происходит постепенное и небыстрое сближение, «прорастание» друг в друга — всё как и в человеческих отношениях. У нас с РАСО взаимопонимание и симпатия установились сразу.
— У вас есть опыт работы с разными оркестрами и, соответственно, с разными типами симфонических коллективов. В частности, с musicAeterna — оркестром-лабораторией, оркестром-сектой. К какому типу вы бы отнесли РАСО?
— В этом вопросе два аспекта. Первый: что представляет собой РАСО сейчас. Второй: к чему мне бы хотелось привести его вместе с музыкантами в обозримом будущем. Сейчас РАСО — крупный, можно сказать «градообразующий», если говорить о культурной среде, коллектив Ростова-на-Дону, в котором 105 человек на сегодняшний день. Это оркестр с глубокими традициями, атмосферой, особенностями, со славной 80-летней историей.
Куда повести его дальше, я представляю, но говорить пока не хотел бы, как и о тех аспектах, в которых оркестру есть куда расти. Есть вещи, которые происходят только между дирижером и оркестром и вербализировать их сложно. Дирижер ведет оркестр, но и оркестр ведет дирижера тоже. И о том, куда мы вместе движемся, лучше поговорить спустя какое-то время.
— Какой срок вы себе обозначили?
— [Композитор Леонард] Бернстайн говорил, что необходимо двенадцать лет, чтобы создать оркестр мечты. Не знаю, будет ли у меня столько времени в Ростове, но, по крайней мере, сейчас мне ясен стратегический план на первые наши три года. Из них полгода уже прошло.
В том образе, к какому мне бы хотелось прийти, очень много самых разных составляющих: творческих, духовных, социальных, поскольку это оркестр большого города, имеющий перед ним обязательства. Более того, это один из крупных региональных оркестров страны. Я не рассматриваю деятельность РАСО как нечто локальное, серьезный оркестр должен занимать свое место в общенациональном культурном контексте.
Сказать большего я пока не могу. По крайней мере, я верю, что этот оркестр при всех своих сегодняшних хороших качествах будет еще современнее, актуальнее, будет еще теснее встроен в жизнь города. И самое главное, с чего всё должно начинаться и что в то же время должно быть целью, — это непрерывный и непростой поиск мысли и красоты звука. Своего звука, я бы сказал, и своего мышления, свойственного именно РАСО.
— Чувствуете ли вы себя свободным в принятии решений на этом посту?
— Полной свободы не бывает, это миф и утопия. К примеру, планирование сезона, да и вообще работы оркестра — это лишь в последнюю очередь свободный полет мысли. Скорее это некий пазл, который собираешь, исходя не только из своих пожеланий и убеждений, но и из существующих реалий. Тут дело не в том, что кто-то конкретный ограничивает твою свободу, а просто всегда есть рамки — например, госзаданий, местных особенностей, традиций. Для начала нужно встроиться в систему, а потом уже думать, что возможно и нужно в ней скорректировать.
Это вообще опасный момент — приход человека на новое место. Новичку, как правило, сразу хочется всё поменять в старой системе, это вполне естественно. Но этого делать не стоит. Для коллектива смена руководителя и без того большой стресс. Всегда лучше первым делом посмотреть на людей, внутрь людей, с которыми ты работаешь. Надо погулять по городу, в котором тебе предстоит работать. Понять, почувствовать, что этому городу нужно и сопоставить с тем, чего хочешь ты.
В рамках имеющихся ресурсов я могу приглашать солистов и дирижеров на свое усмотрение. Но и тут было бы лукавством говорить, что я могу звать кого угодно. К примеру, нужно вникнуть в реалии маркетинга — не хочется, чтобы на концерте прекрасного исполнителя был полупустой зал. Понять, что будет пользоваться спросом, а что нет. И балансировать на грани своих желаний и этих реалий, постепенно модерируя либо реалии, либо (увы, но бывает!) желания.
Сезон 2016/2017, который у нас уже готов, будет революционным — по программам, логике выстраивания, наполнению звездными именами. Этот сезон мы с командой филармонии планировали полгода и до сих пор корректируем — это каждодневная работа. В марте мы его анонсируем — одни из первых в стране, надеюсь.
— Публику Ростова-на-Дону вы уже изучили?
— Пока недостаточно. Не так много мы пока дали концертов. Сейчас, с февраля, я буду больше времени там проводить.
Так вышло, что на моих ростовских концертах всегда была разная публика. Было два крупных концерта, с серьезными симфоническими программами: один — бетховенский, другой — Скрябин-Прокофьев. Оба раза были аншлаги, и это были в своем большинстве именно друзья оркестра — постоянная публика филармонии. Был концерт с удивительной и мною очень любимой Хиблой Герзмавой, на который пришли другие люди — возможно, те, кто не ходит регулярно слушать оркестр. Был концерт с Василием Семеновичем Лановым, на который пришли еще другие люди. Так что я пока еще продолжаю мониторинг.
Следующий сезон как раз и даст нам ответы на вопросы: кто ходит на наши концерты, какова динамика прироста этой аудитории и с какой стороны она прирастает?
Безусловно, мы хотим, чтобы Ростовская филармония стала местом силы для молодежи. Чтобы в филармонию ходили семьями — для этого будут специальные циклы общедоступных концертов. И еще — много ярких детских проектов.
— Общедоступных — в смысле благотворительных, с низкими ценами на билеты?
— Цены на билеты действительно будут демократичные, и при этом не будет никакого проседания в плане качества игры или имен приглашенных музыкантов. Да и сами программы не будут легковесными. Скорее так: мы хотим сделать великие произведения музыки общедоступными для людей, которые никогда их не слышали. Это будут совершенно серьезные программы: Скрипичный концерт Брамса, произведения Щедрина, Шнитке — не будет никаких заигрываний в плане вкуса.
Вообще, я считаю, надо исходить из того, что аудитория ничуть не глупее музыкантов. Это то, о чем многие почему-то забывают. На самом деле всё в итоге зависит не от легкости/сложности произведений, а от качества исполнения и логики выстраивания программы. Мы берем человека за руку и ведем в мир большой музыки, но при этом надо понимать, что даже если наш слушатель неопытен, он не глупее нас и уж точно не менее восприимчив, чем мы, музыканты. Представлять себе аудиторию как серую массу — унизительно для всех. Поэтому надо разговаривать с людьми на том же языке, на каком мы разговариваем друг с другом. Это мое глубокое убеждение. И в конечном итоге аудитория это тоже понимает.
А вообще, что касается ростовской публики, то за восемьдесят лет существования РАСО, естественно, сформировался круг друзей симфонического оркестра. Мы хотим, чтобы этот круг ширился, и прирост аудитории ожидаем, он уже начался. Вообще, надо сказать, что у РАСО была «золотая эпоха» — это годы с Равилем Мартыновым, с 1992-го по 2004-й. Кстати, Теодор [Курентзис], будучи еще чуть ли не студентом, дирижировал РАСО по приглашению Равиля Энверовича. Недавно он вспоминал об этом и хвалил оркестр. После эпохи Мартынова были непростые времена в силу самых разных причин. И наша задача, как мы с руководством филармонии ее понимаем, — снова привести оркестр к творческой стабильности.
— Что вы понимаете под «творческой стабильностью»?
— Творческая стабильность состоит из двух слагаемых. Во-первых, это как можно больше творческих взлетов, побед, то есть «нет» холостому режиму и «да» постоянному стремлению к качеству и большой эмоциональной наполненности. И второе… Я сейчас должен честно сказать, это высокая планка нижнего уровня. Да, возможно, странно звучит. Может быть, к примеру, для оркестра musicAeterna это звучит немного диковато, ведь у него нет задачи играть много, поэтому творческий взлет может случиться, в принципе, на каждом выступлении. Что, в общем-то, чаще всего и происходит.
Что касается оркестра традиционного типа, дающего 60−70 концертов в год (преимущественно с разными программами), включая сюда же поездки по дальним городам региона, выезды на предприятия и так далее, то понятие «планка нижнего уровня» становится очень важным показателем. На любом концерте, в любых сложных условиях, на выезде, с любым дирижером (а их, не считая главного, проходит перед оркестром до двух десятков в сезон) не потерять своего лица и стати. Это должно быть делом чести и профессиональной гордости коллектива.
— Будучи плотно занятым в Ростове-на-Дону, отныне в Перми вы будете появляться реже?
— Нет, даже наоборот. Как-то так получилось. В этом сезоне у меня три ввода в оперные спектакли: «Царская невеста», «Мадам Баттерфлай» и «Синдерелла, или Сказка о Золушке». Плюс балетный репертуар, два симфонических концерта — один сейчас, другой в феврале с Надеждой Кучер, ассистентская работа с Теодором, игра под его управлением с musicAeterna. Проект «Шуберт гала» на Дягилевском фестивале. Может быть, по дням я тут чуть реже стал бывать, но по наполнению — никоим образом. И этому я очень рад. Потому что изначально, когда я принимал приглашение возглавить РАСО и посвятить ему немалую долю своего времени и энергии, для меня также было важно остаться в Перми. Да и любые приглашения на гастроли я всегда стараюсь принимать в том случае, если они не несут ущерба работе здесь. Потому что без театра моя жизнь будет удручающе неполной. Я театральный человек.
— И тем не менее мне всегда казалось, что вам свойственно чувство отстранения: когда вы, несмотря на столь активную включенность в работу здесь, оставляете за собой возможность — и у вас это хорошо получается — посмотреть на происходящее в Пермском театре со стороны. В этом отношении Большой симфонический оркестр театра — он, на ваш взгляд, к какому типу оркестров относится?
— Вы правы, у меня есть такое качество: даже если я очень воодушевлен, все равно получается сохранить взгляд со стороны. Локальное мышление мне вообще чуждо, я всегда стараюсь всё рассматривать в максимально широком контексте.
Что касается БСО, то, должен признаться, это моя большая любовь. На концерты с пермскими музыкантами я всегда выхожу с радостью, и мне кажется, они разделяют со мной это чувство. Меня в этом оркестре сразу тепло приняли, у меня не было с музыкантами никаких творческих конфликтов и разногласий. С этим оркестром я впервые в своей жизни дирижировал оперным и балетным спектаклем — это важная инициация в мир театра.
У БСО много замечательных качеств. Это, например, невероятная мобильность и способность быстро выучивать материал. Потом нельзя не отметить, что их музицирование очень искреннее, по-настоящему. Музыканты этого оркестра, несмотря на большой объем работы — все-таки большая часть репертуара лежит на их плечах, — умудряются воспринимать музыку всегда очень непосредственно и минуя рутину, которая могла бы иметь место. Пожалуй, я бы поставил этот коллектив на одно из первых мест среди оперных оркестров нашей страны. Это в данном случае слова не любви, а объективной оценки.
Для меня оркестр — это всегда в первую очередь сообщество индивидуальностей. Я работаю не с коллективным механизмом, а с каждым исполнителем в отдельности, даже когда обращаюсь ко всем сразу. Всех вижу и всех чувствую. Возможно, так происходит, потому что я сам много играл в оркестре. Так, конечно, работать затратнее — все равно что поговорить со ста людьми, а не просто крикнуть всем какой-то один лозунг. Но так, я думаю, получается более искренне музицировать.
— И вы готовы часто так делиться своей энергией?
— Пока да. Хотя вопросы духовной стабильности на сцене стоят очень остро (кстати, и физически это непросто всё). В какой-то момент приходишь к тому, что сложно быть наполненным каждый раз, тем более что сейчас есть некая востребованность и увеличивать количество выступлений можно неограниченно.
Один вариант решения этой проблемы — играешь много, но идешь на то, что часть концертов будут проходными. То есть идешь на некую сделку с совестью. Второй вариант — сознательное ограничение количества выступлений.
Я выбираю радикальный третий вариант — не уменьшаю количество концертов и стараюсь сделать так, чтобы не было ни одного проходного. Пока получается. Удачные-неудачные случаются, но холостых не бывает.
— Для такого титулованного музыканта, как вы, задача посильная, надо думать.
— Что касается исполнительства, то это еще дополнительные трудности. Ведь я еще немало играю на кларнете.
— То есть вы не намерены отныне сузить свою исполнительскую карьеру и посвятить больше времени дирижерской работе?
— Ни в коем случае. У какого-то советского писателя есть повесть для детей, в которой герой пытается смоделировать ситуацию нахождения, если я правильно помню, на Меркурии: там, где в тени минус 200 градусов, а на солнце плюс 500 градусов. И вот этот герой одной ногой встает в кипяток, а другой — в ледяную воду.
У меня сейчас немножко похожая история. Я пытаюсь находиться на двух полюсах одновременно — играть на кларнете и дирижировать. Иногда есть ощущение, что эти две ипостаси конфликтуют. И всё же я собираюсь жечь эту свечу с двух сторон и в дальнейшем.
— Недавно вы выиграли конкурс дирижеров в Москве: вам присудили вторую премию, но в отсутствие первой премии можно считать это победой. Объясните, в чем суть дирижерского конкурса? По каким критериям оценивается мастерство дирижера?
— Скажу как на духу — не знаю. Я вообще сочувствую членам высокого жюри, задача у них непростая. По сути дела, конкурс дирижеров — это такое небольшое лукавство. Потому что участник должен за двадцать/ сорок/ шестьдесят минут, в зависимости от тура, порепетировать и потом провести целиком произведение или даже несколько. Это ситуация, которая в реальной жизни случается редко. Все-таки ты, как правило, имеешь чуть больше времени, чтобы перелить в оркестр свою интерпретацию. Здесь об этом речи нет. Всё, что можно сделать, — как минимум не успеть сказать глупость, а в лучшем случае на каком-нибудь крошечном фрагменте показать, что после замечания или пожелания в звучании оркестра что-то изменилось к лучшему. Например, на первом туре у меня на репетицию было всего шесть минут.
Потом ты просто играешь произведение от начала до конца. Пожалуй, вот это и есть наиболее верный способ определить лучшего — увидеть, как дирижер руками на ходу выстраивает произведение. Еще раз скажу, что на конкурсе репетиционная работа в крайней степени условна. А вот то, как с ходу ты конструируешь произведение и непосредственно воздействуешь на оркестр, — видимо, вот это важный критерий.
— Оркестр, как вы говорите, не монолитный механизм, а сообщество разных людей. На конкурсе со стороны музыкантов в ваш адрес диверсий не было?
— Не было никаких диверсий. В адрес оркестра Московской филармонии и его главного дирижера Юрия Ивановича Симонова можно сказать только самые теплые слова благодарности. Когда через музыканта в течение двух дней проходят двадцать молодых и часто совсем «зеленых» дирижеров, наверное, в какой-то момент он задумывается о том, что, возможно, не ради этого столько лет учился в консерватории… Но заметно этого не было, музыканты благородно поддерживали всех, или почти всех.
— А в чем заключается подготовка, индивидуальный репетиционный процесс дирижера? Музыкант может играть часами один и тот же фрагмент и достигать совершенства. А дирижер — не руками же он машет перед зеркалом?
— Ну, вы же понимаете, что руки — это только видимая всем верхушка айсберга в работе дирижера. Фактически дирижер дирижирует изнутри — тем, что он слышит, что у него в душе, в голове и ушах. Вот эти три аспекта, собственно, и нужно все время развивать. Мозги: причем и левое полушарие, и правое, и образность мышления, и логику. Эрудированность, компетентность в самых разных областях. Дирижер — это ведь общечеловеческая профессия, а не только музыкантская. Нужно уметь сопоставлять и обобщать разные явления, часто далекие друг от друга. Необходим тонкий, умный слух. И, безусловно, всегда открытое сердце для музыки и для людей. Естественно, я сейчас многое не называю. В комплекс развития дирижера входит всё: и ночи, проведенные с партитурами, и сотни тысяч часов прослушанной музыки, и тысячи просмотренных фильмов, и тысячи часов в музеях, и тысячи часов разговоров с умными людьми, и наблюдений за жизнью.
Что касается мануальной техники, то до известной степени ей можно обучить почти каждого человека. Другое дело, что именно с ее помощью мы передаем образы и музыкантам, и аудитории. Но все равно внутреннее наполнение диктует поведение. Жест не цель, а средство. Кстати, были примеры выдающихся дирижеров с примитивными и, как говорят на музыкантском сленге, плохими руками. [Вильгельм] Фуртвенглер, например. И с другой стороны, есть множество дирижеров второго ряда с прекрасной мануальной техникой. Значит, всё же есть что-то более важное, чем красивые руки.
Вообще, важно понимать, что жест дирижера — нечто в первую очередь обращенное к музыкантам оркестра, а значит, внутренняя и довольно интимная «кухня». Важен художественный результат, а не способы его достижения.
— Прежде чем спросить вас про сегодняшнюю концертную программу, я пыталась проанализировать ваши предыдущие выступления с позиций того, что доминирует в вашей работе — концепция или исполнительские возможности солистов. И я не пришла к однозначному выводу.
— Я тоже как раз недавно пытался проанализировать это и тоже не пришел к однозначному выводу. Дирижеры подходят к выстраиванию программы очень по-разному. Кто-то не представляет себе ее без четкой логики притяжения между сочинениями, как, например, Владимир Юровский. У него программа — это законченное произведение еще до того, как прозвучала первая нота. Кто-то формирует программы стихийно.
Я, пожалуй, ближе все-таки к позиции Юровского, но не склонен непременно доводить концепцию до блеска. Вкус позволяет сразу рефлекторно отсеивать сочетания явно неприемлемые. Чтобы у слушателя не возникло дискомфорта от того, что в первом отделении он послушал, например, красочную «Шехеразаду» Римского-Корсакова, а во втором — самоуглубленную симфонию Брукнера. Для меня такая программа неприемлема, потому что эти сочинения как бы воспринимаются разными рецепторами и переключиться аудитории очень сложно. Я за разнообразие, но со считываемыми связями и контекстами.
В нашей сегодняшней программе мы представляем три пласта французской музыки. Надо сказать, что Франция в контексте мировой музыки — это такое «государство в государстве», от [Жана Филиппа] Рамо и до [Анри] Дютийё в ней есть что-то неуловимо общее, некие архетипы. Французская музыка всегда узнаваема, но в этой программе мы нашли некое многообразие в единстве.
Вот — Морис Равель. Свою светлую, пленительную сказку «Матушка-гусыня» он написал сразу же после сказки страшной — «Ночного Гаспара». И в «Матушке-гусыне» это чувствуются. Если вы читали не адаптированного для современного ребенка оригинального Перро (его сказками вдохновлены три из пяти пьес сюиты Равеля), то вы поймете, о чем я говорю.
Для меня встреча с «Матушкой-гусыней» — это встреча с собственным детским отражением в зеркале посреди пустой комнаты. Нет ничего более прекрасного и страшного одновременно. Каким ты был? Каким ты стал? Что в тебе изменилось за эти годы — а вдруг ты потерял больше, чем приобрел? В музыкальной сказке Равеля есть и эти вопросы тоже.
Далее — Эммануэль Сежурне, ныне живущий композитор и перкуссионист. Это Франция совершенно иная: пережившая эпоху Эдит Пиаф, уже знакомая с Астором Пьяццоллой и вообще латиноамериканской культурой. Франция, которая движется в жестком ритме современного Парижа. Концерт Сежурне — произведение для коллекционеров экзотических звуковых ощущений, благодаря солирующему инструменту. Концерт для маримбы вообще большая редкость. Сначала мы хотели, чтобы солист Большого симфонического оркестра Рома Ромашкин играл это сочинение, но у него нет такой концертной маримбы, поэтому пригласили Андрея Волосовского, который недавно прекрасно исполнил этот Концерт со мной в Москве.

И наконец, симфония Франка — снова другая эстетика. Ромен Роллан назвал Сезара Франка самой чистой душой среди композиторов. В каждой ноте его музыки — взгляд в сторону идеала, причем идеала не бетховенского или берлиозовского (то есть революционного), а именно идеала христианского смирения. Эта музыка явно вдохновлена небесами. Не коллизиями реальной жизни, а стремлением к божественному. При этом Франк совершенно избежал назидательности, морализаторства, в его симфонии явно слышен мятущийся романтический герой, погруженный глубоко в беды и борьбу нашего мира, но всем своим существом устремленный к Богу.
Мне кажется, получилась хорошая, сбалансированная программа.
Вопросы задавала Наталья Овчинникова