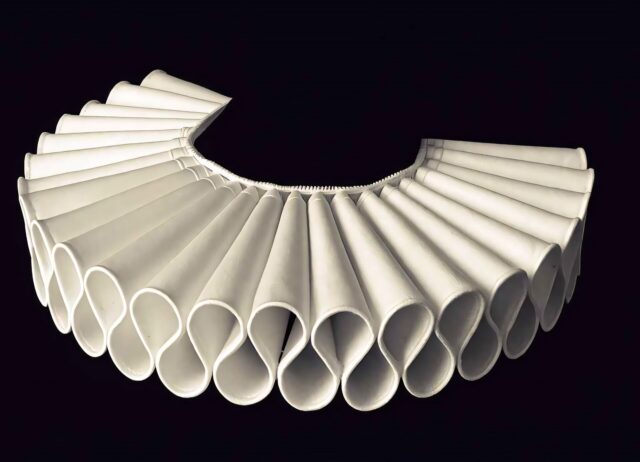После появления в афише оперного театра декабрьского «Happy End» культурная общественность замерла: как раз в конце года заканчивался контракт художественного руководителя театра Теодора Курентзиса. Худшего не произошло, но неопределенность сохраняется и сейчас: новый контракт все еще не подписан. С оговоркой «если я останусь» Теодор Курентзис рассказал о своих планах, свободе в искусстве и о счастье.

— Теодор, не могу не спросить: контракт так и не подписан?
— Контракт не подписан. Мы продолжаем переговоры. Но я бы воздержался пока от комментариев. Хочу только сказать, что за последние пять лет нам удалось сделать театр, которым край, да и страна могут гордиться. Мы добились децентрализации искусства. Так сложилось, что в России искусство сосредоточено в столице: там реализуются все лучшие проекты, там сосредоточены огромные финансовые ресурсы. От провинции никогда ничего особенного не ждали. Сейчас не только в стране — в мире знают Пермский оперный театр. Мы уже традиционно первые по количеству «Золотых масок», нас приглашают в Австрию — ставить Моцарта, в Германию — ставить Вагнера. На пермские премьеры приезжают со всего мира. Еще несколько лет назад, когда мы говорили о таких перспективах, над нами смеялись.
Нас называли фантазерами, сейчас с удивлением осознают, что мы добились своего, что мы правы. И это сделал провинциальный театр, с бюджетом в десяток раз меньшим, чем у Большого театра. Но даже этот бюджет нам приходится сейчас какими-то невероятными усилиями отвоевывать.
— Вы рассматриваете возможность уехать из Перми, если не удастся договориться?
— Однозначно уеду. Соберу оркестр и уеду. Я уже давно к этому склоняюсь, потому что, откровенно говоря, мне надоело. Я вообще не люблю воевать. С другой стороны, мне, конечно, не хочется бросать незавершенное дело. Я приехал в Пермь не для того, чтобы сделать какой-то модный проект или заработать деньги, я здесь, потому что у меня есть идея, мечта — создать культурную среду и театр такого уровня, какого нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, который и в мире будет одним из немногих. И нам удалось это сделать. Но для того чтобы это сохранить и продолжать, нужен театр и нужно финансирование. Я знаю, есть мнение, что мы не оцениваем реальную ситуацию. На самом деле все наоборот: мы создаем реальность, в которую они просто не врубаются.
— Вы чувствуете, как в целом в России, и в Перми в частности, изменился культурный климат: какие-то темы стали нежелательными, ужесточился контроль, появились какие-то добровольные цензоры из числа зрителей?
— Все эти феномены — попытки цензуры и усиление официальной пропаганды — это, как мне кажется, побочный эффект стремления что-то противопоставить критике Запада. На уровне региона, который как обезьянка копирует федеральные тренды, старается угодить и перестраховывается, эти явления усугубляются. На мой взгляд, это ложные действия. Они дискредитируют российскую культурную идею, основой которой всегда была свобода. Россия — мультикультурна. Здесь, на этом огромном пространстве от Восточной Европы до Японии, встречаются самые разные традиции: традиции Востока и Запада, Севера и Юга, множество самых разных проявлений и смыслов. И результат этого слияния — то невероятное искусство, которое дарит миру эта страна. И это прекрасно, это и есть сокровище и сила России. И попытки лишить культуру этого духа — это как убрать сердце из организма. И как нельзя жить без сердца, так нельзя жить без диалога, без свободы, без экспериментов и противоречий. Значит, нужно отказываться от Пушкина, потому что скандальный поэт, и Достоевского, потому что сидел в тюрьме, и Чайковского, потому что гомосексуалист, и Стравинского, и Дягилева, как адептов западной культуры. Я не знаю, что при таком подходе останется.
Но вообще-то я пока особых ограничений не вижу. Конечно, есть и мракобесие — то, что происходило в Новосибирске, например, но есть и очень много прогрессивных людей, которые делают интересные и важные вещи. И я всегда, когда об этом заходит речь, защищаю Россию. Я стараюсь убедить, что не надо сгущать краски и на основе одного-двух примеров делать глобальные выводы об отсутствии свободы слова в стране и тотальном контроле. Это не так.
— На ваш взгляд, абсолютно ли все может быть предметом искусства?
— Абсолютной свободы не бывает. Критерий один: искусство должно служить человеку. Не учить, не воспитывать, не агитировать, не развлекать, а созидать. Люди после встречи с искусством должны думать. В этом смысле даже отрицательные и мрачные произведения искусства, если они сделаны с любовью к человеку, если они обращаются к тем смыслам, которые человек, может быть, не может сформулировать, но интуитивно чувствует, они важны. Как антибиотик, который, с одной стороны, может нанести некоторый вред, но он лечит.
— Как вы считаете, нужно зрителю объяснять произведение искусства, или восприятие должно быть непосредственным?
— Я считаю, учиться и учить воспринимать произведение искусства нужно. Вот вы видите сейчас предметы, которые стоят на пианино: например, затейливая статуэтка, но она для вас мало что значит. Но если я расскажу вам ее историю, расскажу, что это — приз Echo Klassik, вы посмотрите на нее другими глазами. Так начинается проникновение в этот небольшой космос, ранее закрытый для вас, но открывающийся после моего объяснения. То же и с искусством. Ведь искусство — это символы, знаки, которые хаотично отражаются у нас в подсознании, и после какого-то сигнала они гармонизируются, обретают некий смысл и значение. Поэтому важно дать толчок, возможно, какой-то элемент интерпретации, чтобы люди посмотрели на произведение открытыми глазами. Иногда бывает нужно некое сильное впечатление, часто даже отрицательное. Так, например, я знаю, что те зрители, которые негативно реагируют, скажем, на «Носферату» и сейчас говорят: «Что за кошмар!» — лет через десять будут защищать этот спектакль. Парадокс, но это так. Потому что если произведение искусства вызвало сильное раздражение и агрессию, значит оно чем-то задело человека, значит началась у него внутри работа. Вот тот, кто остался равнодушен, ничего не увидел, — вот там проблема.
— Очень позитивно аудитория приняла формат ночных бесед с вами, особенно ту его часть, где вы анализировали звучавшую музыку. Планируете ли повторять этот опыт?
— Хотелось бы продолжить общение со зрителями и в этом формате тоже. Вообще же я хотел бы сделать в Перми некий образовательный, коммуникативный проект, условно назовем его «Центр Дягилева». Это такое место встречи зрителя с артистами, куда будут приходить выдающиеся личности со всего мира, режиссеры, актеры, музыканты, художники, хореографы будут проводить мастер-классы, встречи со зрителями, где музыканты будут играть и слушать музыку, а потом обсуждать вместе со зрителями. Хочется, чтобы люди собирались вместе и говорили о проблемах в искусстве: куда оно движется, какие процессы происходят в искусстве. Чтобы молодые люди становились умнее, чтобы они задумывались о том, что они делают в жизни и что они могут сделать. Потому что если мы хотим добиться больших изменений в мире, мы должны измениться сами. То есть импульс к значительным изменениям — в нас самих. И искусство как раз об этом и говорит, для этого оно и существует, чтобы запустить в человеке такие процессы. Так родился когда-то театр — как место, куда человек идет думать. А думает он, потому что не знает.
— Помимо редких встреч в театре, вы общаетесь еще в какой-то форме со зрителями?
— Иногда, когда есть время, я могу прогуляться по городу. И часто встречаю людей, которые благодарят за то, что мы делаем в театре. Хотя я стесняюсь немного, потому как считаю, что это не моя заслуга. Я просто руковожу театром, но его успех — это заслуга многих людей: и тех, кто здесь живет, и тех, кто приезжает, чтобы отдать часть своего таланта этому городу.
— А как вы вообще любите проводить время? Скажем, как выглядит ваш идеальный вечер?
— Это зависит от моего внутреннего состояния. Если я нахожусь в гармонии, я могу сидеть с человеком и вести приятную беседу, — это прекрасно. Или еще лучше, если я нахожусь в таком эмоциональном состоянии, чтобы писать, и создаю что-то… тогда это совсем хорошо!
— А когда вам лучше заниматься творчеством: когда вы спокойны, или когда чем-то взбудоражены, влюблены например?
— Состояние влюбленности и состояние разочарования в любви очень похожи. Это как встреча и разлука — они вызывают примерно одинаковые эмоции. Долгое время это было то состояние, в котором я творил. И тогда, в те моменты, когда я был счастлив, возникал вопрос: а что же я буду делать теперь? Как я пойду плакать с людьми, если я счастлив? Но потом я начал думать, а почему ты должен быть все время несчастным? И сам себе отвечал: потому что материал, музыка, которую я делаю, говорит о том, что мир несчастен. Тогда я решил: создавай ту музыку, которая говорит о божественном. Вот то, что меня сейчас очень интересует: божественная составляющая музыки — не столько ее сентиментальная, эмоциональная часть, сколько то обращение к человеку, которое в ней заложено.
— А бывает такое, что ничего не хочется делать: ни на сцену выходить, ни играть, ни писать?
— К счастью, нет. И пожалуй, это действительно счастье. Просто я все время старался преодолеть препятствия, непонимание. Вы не представляете, насколько все мое творчество — это преодоление препятствий! И сейчас, когда уже понимают и принимают, когда нет очевидных препятствий, все равно выбираешь те дороги, где есть сложности. Потому что жизнь — это движение. Что-то удалось, но впереди уже виден другой горизонт, достигнуть которого можно только преодолев очередное препятствие. Жизнь — это то, что в процессе находится, то, что между нот, как и музыка.
— Каков ваш главный замысел в жизни?
— Стать лучше, стать абсолютно гармоничным человеком, светлым. И чтобы я был достойным дарить красоту другим людям, которые в ней нуждаются. Вот самое главное. Банально очень звучит, но это правда. Это правда.