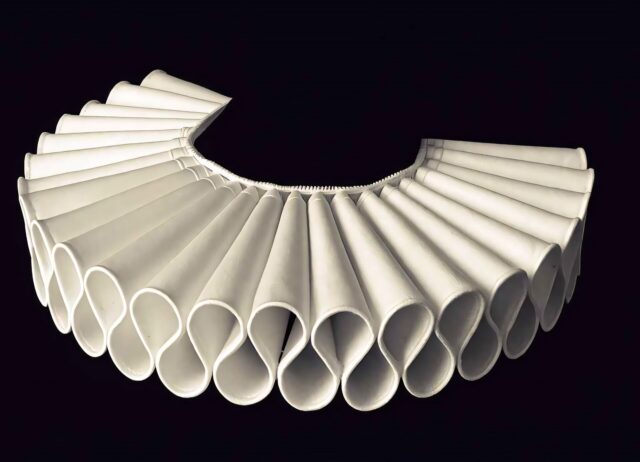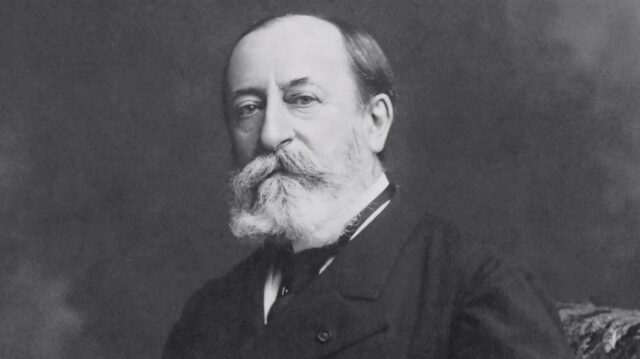Раннее субботнее утро, настолько мягкое, что даже кажется теплым — хотя градусник уверенно застывает на отметке ближе к -20. Сквер вокруг театра и сам театр покрыты свежевыпавшим снегом и будто лежат под пуховым одеялом. В самом театре, однако же, сна нет и впомине. Рабочая суета. На служебном входе на меня вылетает кто-то из работников сцены и начинает отчитывать за то, что я так долго несу удлинитель. Потом улыбается, обнаружив, что я к электрике отношения не имею почти что никакого, и здоровается. Здороваются здесь все: привычка говорить «здравствуйте» во всех коридорах лицам знакомым и не знакомым (а также призракам заблудившихся в этих коридорах людей, которые там, очевидно, водятся) здесь как-то очень к месту, ко времени и настраивает на нужный лад.
Начинается репетиция хора. Артисты приходят почти как этот субботний снег: все расслабленно перешучиваются, листают партитуры. Обнаруживается, что у одного из певцов сегодня день рождения, откуда-то появляется коробка конфет, еще несколько шуток и много поздравлений. В зал влетает репетитор по вокалу, начинается распевка. Этот человек почему-то мне напоминает своими жестами молодого Охлобыстина — который из «Даун Хауса», а не современного и неприятного. Распевка похожа на зарядку — и даже не тем, что все артисты двигаются, а скорее тем, что педагог, давая одно задание за другим, будто заряжает всех пришедших. Шутить начинают массово, смеха становится больше; вообще не первое даже уже десятилетие замечаю, что чем глубже и искренней человек погружен в свое дело — в искусство, науку, в общем, труд — тем чаще он является добродушной ехидной и язвой. За первые десять минут создается впечатление, что здесь все такие.
Начинается сама репетиция — и не только у хора. Из-за стенки слышно чужое фортепиано, наигрывающее какой-то невыносимо знакомый мотив: там разминается балет. Я выхожу в этот коридор и ловлю очередной кадр, который невозможно снять: хоровой класс расположен чуть ниже балетного — и слева остаются артисты, репетирующие Духовный концерт Сидельникова, впереди вдали танцовщики репетируют парный танец, а совсем близко ко мне в коридоре одна артистка делает вертикальный шпагат, а другая сидит рядом на красном шаре и печатает что-то в телефоне.
Пока я снимаю репетицию, вспоминаю: как-то раз — в сентябре, случайно и восемь лет почти тому назад — я попала на концерт памяти жертв падения Боинга. Исполняли как раз Сидельникова. Название произведения память стерла, но некоторое послеконцертное ошеломление осталось уже со мной. И вызвано оно было скорее даже не красотой исполнения и гармонией написанной музыки, хотя и этим тоже. Я услышала в пропеваемом тексте: «Помилуй мя, грешного». И подумала: вот эти люди, что на сцене, собираются каждый день, много репетируют, в том числе и этот концерт. И каждый вечер говорят, и не по разу: помилуй мя. Иногда повторяя эту фразу долго, чтобы она звучала так, как необходимо; чтобы она летела (репетиция и полет вообще связаны друг с другом, пусть и крайне отдаленно: латинское repetere, которое «вновь повторяться, возобновлять» все же выросло из праиндоевропейского *pet-/*pte- «стремиться, лететь»). Понятно, что от долгого повторения ты уже не вслушиваешься слишком в то, что сам произносишь, многое пролетает мимо сознания — но и человек далеко не только свое сознание, и слова на родном языке все равно обращают на себя внимание. И каким-то своим, особенным образом, произносимое — и тем более пропеваемое — отпечатывается в человеке.
Не так, как следы прохожих в снегу: их все равно потом заносит попутным ветром, снег стаивает, наступает весна. Не как в глине: поверх обожженного отпечатка уже нельзя написать ничего нового. А именно человеческим образом: когда всё спетое, прожитое, выдуманное существует в тебе одновременно, и из этого получается — музыка.
Текст и фото: Татьяна Шкляева