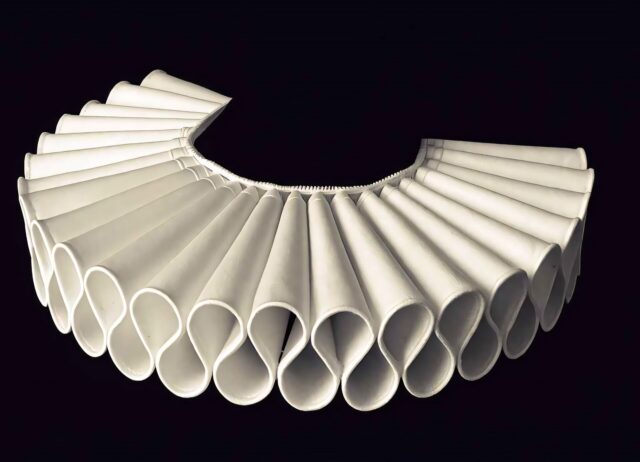На следующий день после балета Мариинки на сцене Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко выступил Пермский театр оперы и балета с программой «Век танца: Стравинский—Баланчин». Из трех показанных спектаклей на «Маску» номинирована баланчинская «Симфония в трех движениях», впервые поставленная в России.
Формально не «век» — менее полувека: «Аполлон Мусагет» поставлен Баланчиным в 1928-м, «Симфония в трех движениях» — в 1972-м, уже после смерти композитора. «Век» здесь в том смысле, что эти два человека определяли развитие хореографического театра в ХХ столетии. Театра мирового, но не советского: впервые Баланчин появился в СССР за два года до его краха. Зато новая Россия осваивала его наследие с жаром, особенно Петербург и Пермь. И два первых балета пермской программы — «Аполлон Мусагет» и «Рубины» — имеют довольно обширную русскую традицию исполнения. Их заигранность придает особый риск очередной постановке — из-за неизбежности сравнений. Но пермяки выскользнули из щекотливой ситуации.
«Аполлона» спас Аполлон: Никита Четвериков, выдвинутый как лучший танцовщик в неноминированном балете (исключительный случай в практике «Золотой маски»). Нельзя сказать, что молодой танцовщик был ослепительным или безупречным. Стройный, длинноногий, пропорционально сложенный, он с ходу, сразу после «рождения» освобождаясь от «пеленки», запутался в пируэте, а два последних медленных тура своей вариации провернул аварийной Пизанской башней. Зато этот корректный интеллигентный Аполлон избежал главных штампов коварно-прозрачного балета — образов лучезарного мальчика и настоящего мачо. Герой Четверикова менялся не только от сцены к сцене, но и внутри каждого эпизода: как равный резвился с музами в коде и тут же, услышав божественный глас Зевса, становился вдохновенно-сосредоточенным; чувственно ласкал ножки подружек-муз, однако оценивал их творческие потуги с суровостью прокурора. Странности танцевальные (вроде диагонали пируэтов на согнутой опорной ноге, которая почти у всех выходит слегка комичной) этот Аполлон успешно преодолел, сумев найти ту форму движений, которая придала им значимость и достоинство. Тройка его муз оказалась намеренно разнокалиберной и танцевала весьма непосредственно, так что при точной фиксации хрестоматийных поз и комбинаций балет оживился движением вполне человеческих отношений.
«Рубины» — средняя, джазово-бродвейская часть триптиха «Драгоценности» — ахиллесова пята всех российских трупп. Американский акцент нашим артисткам решительно не дается — получается либо развязность дешевого шантана, либо институтки на каникулах. Пермский кордебалет тоже не с Бродвея, но он и не тщился выдать себя за иностранный: жизнелюбивые русские девушки не без удовольствия, но и без аффектации крутили бедрами, честно блюдя строй и четко выделяя синкопы,— и это уже неплохой выход из положения.
Главным событием вечера стала впервые поставленная в России «Симфония в трех движениях» — балет многолюдный и, можно сказать, революционный для Баланчина. Не только из-за подчеркнуто атлетического строя массовых сцен, намекающих на тоталитарные спортпарады, но и по изуверски сложному и динамичному танцевальному рисунку, детально воспроизводящему музыкальные перипетии. «Симфонию в трех движениях» Стравинский сочинил в 1945-м и — редкий случай в его практике — растолковал, что «каждый эпизод симфонии связан в воображении (автора) с конкретным впечатлением о войне, очень часто исходящем от кинематографа». К 1972 году, времени постановки балета, военные реминисценции были неактуальны. Баланчин, по своему обыкновению, исходил из музыки. В трех частях балета он тоже играет с избранными движениями: прыжком субрессо с поджатыми ногами, вращением тур-пике, полурондами больших батманов, маршеобразными шагами и ребяческим бегом («Рубины», поставленные им за пять лет до этого, отозвались эхом почти идентичных па). На этом скупом фундаменте хореограф конструирует колоссальное здание, ошеломляющее подвижностью всех частей и ритмической сложностью взаимодействий разных танцующих групп. Адекватно представив это удивительное — одновременно монументальное и легкое, прагматичное и мистическое — сооружение американского классика, пермская труппа оказала реальную услугу российскому балету, ценность которой лишь подчеркнула выступавшая накануне труппа Мариинского театра.
Балет Перми вроде бы некорректно сравнивать с петербургским: несопоставим масштаб, размеры финансирования, количество статусных артистов и репетиторов. Однако при подавляющем исходном преимуществе Мариинка проиграла пермскому театру по крайней мере по двум статьям: в концептуальной осмысленности программы и в жизнеспособности — как показанных балетов, так и самой труппы. Анемичность вышколенных петербуржцев, которым, казалось, все равно, что танцевать — примитивную арифметику Антона Пимонова или высшую телесную математику Уэйна Макгрегора, выглядела особенно печальной на фоне командного драйва пермяков. А бездумная компоновка петербургской программы по принципу «и нашим и вашим» составила весьма выразительный контраст интеллектуальности пермского «Века Стравинского—Баланчина».