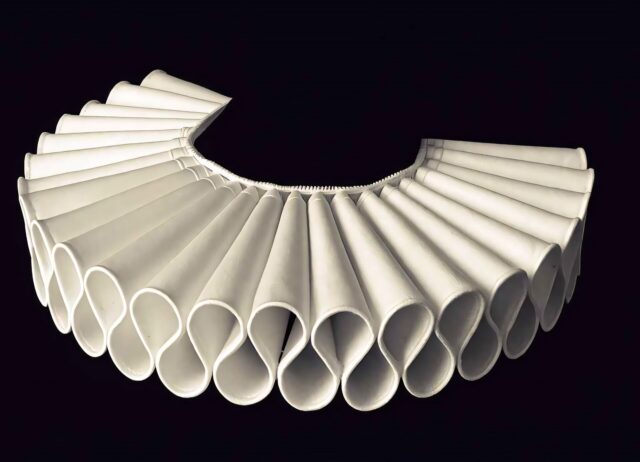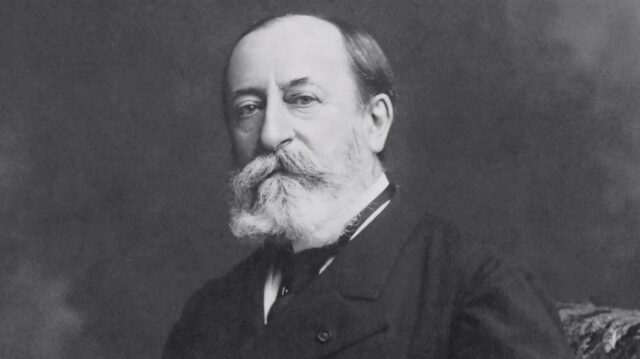Эксперт «Золотой маски», арт-директор Международного фестиваля современной хореографии «На грани» Лариса Барыкина — о том, как спасти пермский балет.
Пермский балет получил статус бренда еще в те времена, когда о самом слове и понятия не имели. Культурный миф складывался постепенно, где-то с конца 1960-х: регулярные победы на международных балетных турнирах учениц легендарной Людмилы Сахаровой, (и столь же регулярный отъезд лучших выпускников Пермского хореографического училища в столицы), эпоха Николая Боярчикова, позднее — спектакли [Георгия] Алексидзе, [Владимира] Салимбаева, блестящее реноме труппы, востребованной на Западе. С 1990 года Пермь обзаводится фирменным конкурсом «Арабеск», собирающим каждые два года по весне немало балетных знаменитостей. Все это приносит городу репутацию третьей хореографической столицы, третьей балетной Мекки.
На этот имидж успешно срабатывает связь с американским Фондом Джорджа Баланчина, позволившая иметь в репертуаре его постановки на законных основаниях. В негласной схватке с Большим и Мариинским Пермский театр одерживает «промежуточную» победу: в 2004 году спектакль Ballet Imperial получает «Золотую маску», затем труппа блистательно выступает на международном летнем фестивале в Санкт-Петербурге, посвященном главному хореографу XX века. Критика, в том числе и западная, говорит о «пермском Баланчине»: его сочинения в трактовке уральских танцовщиков выглядят не холодно-отточенными музейными редкостями, а живыми, исполненными драйва и загадочных тайн. Вслед за Баланчиным в репертуаре появляется и Джером Роббинс. Если вспомнить, что в последнее время пермский балет практически ежегодно номинируется на главную театральную премию страны, оставаясь в числе основных ньюсмейкеров россий¬ской балетной жизни, то картина кажется вполне благополучной.
Но жизнь в стране тем временем не стояла на месте. В Мариинке освоили деконструктивиста [Уильяма] Форсайта и предложили балету подумать об исторической подлинности. В игру включились и новые персонажи. Уверенно заявил о себе Новосибирск, еще один нестоличный балетный центр страны. Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского (в просторечии «Стасик») получил в репертуар постановки [Джона] Ноймайера, Начо Дуато и (впервые в стране) Иржи Киллиана — ключевых фигурантов хореографического процесса. А питерский Михайловский театр, возглавляемый амбициозным бизнесменом [Владимиром] Кехманом, вообще заимел знаменитого испанца Дуато в качестве балетного худрука.
Сегодня для поддержания культурного мифа Перми нужны какие-то новые и резкие телодвижения. Есть основательный бэкграунд: собственная балетная школа, кредит доверия со стороны властей и бизнеса, плюс невероятная любовь публики. Все они вместе и не без оснований считают пермский театр «жемчужиной Урала». Но есть и отягчающие обстоятельства. Более широкого плана. Они касаются всего российского балета в целом, который 70 лет был изолирован от мировых процессов и многое проспал, да и сегодня не избавился от провинциального консерватизма. Он по-прежнему судорожно цепляется за свое «славное прошлое», его кастовость и замкнутость непосвященным даже трудно вообразить. На Западе уже давно академический балет (условно говоря, где танцуют на пуантах) и contemporary dance (упрощая — все остальное) взаимодействуют и воспринимаются как две стороны одного целого, называемого современной хореографией. У нас они — по разные стороны баррикад. Знаю, что лет пятнадцать назад у директора Пермского оперного театра Михаила Арнапольского была идея позвать Евгения Панфилова, но в тот момент лидеру единственной в стране частной балетной компании свобода была дороже. Но ведь и сегодня не поздно открыть двери для самых разнообразных радикальных экспериментов. Главное, найти их авторов. И это другая проблема. Перестроечной волной из России «смыло» не только отличных педагогов и талантливых артистов, но и многих потенциально дееспособных хореографов. В стране — чудовищный дефицит, недаром все последние отечественные достижения выглядят гуманитарной помощью Запада.
Есть и проблемы местного свойства. На сегодня труппа театра кажется на редкость обескровленной. Харизматичные солисты — в прошлом. Последним истинным принцем пермской сцены был Виталий Полещук, его жена Наталья Моисеева еще танцует, но настоящей смены ни ей, ни Елене Кулагиной так и не появилось. Не буду перечислять всех, кто за последние двадцать лет ярко мелькнул и куда-то исчез. Все годы меня, как постоянного члена жюри прессы «Арабеска», мучает вопрос: а куда деваются талантливые выпускники пермского училища, на нем засветившиеся? Почему солидной труппе танцовщики предпочитают заштатные импортные или самозвано-халтурные отечественные компании? Дело в деньгах, в жилье или в творческих запросах? Эта проблема кого-то еще волнует?
Рецепты для будущего могут быть разными и вполне конкретными, но главное — пермский балет не должен играть в догонялки с Большим и Мариинским (в обоих, кстати, огромные проблемы творческого толка: отсутствие лидеров-балетмейстеров и внятной стратегии), да и с прочими известными театральными домами. Путь единственный — под девизом «эксклюзив» лелеять собственную индивидуальность, как в освоении классики, так и в поисках новизны. Это хорошо понимал [прежний художественный руководитель пермского театра Георгий] Исаакян. И, кстати, те, кого он приглашал делать проекты для Дягилевского фестиваля в синтетическом жанре (оперы-балеты «Семь смертных грехов» Раду Поклитару и «Соловей» Татьяны Багановой), могли бы привнести что-то интересное и в собственно балетный репертуар. Балетная жизнь в целом может оживиться за счет мини-фестивалей, воркшопов, резиденций. В театр должна прийти новая публика, а для этого необходим процесс смены художественной парадигмы, и Пермь вполне может стать застрельщиком в этом деле. Да и «Арабеску» после своего двадцатилетия необходим новый импульс и кардинальное обновление.
Понимает ли все это Алексей Мирошниченко, второй сезон возглавляющий пермскую труппу? Думаю, да. В качестве лидера у него немало козырей: отличная школа и питерская широта художественных взглядов, несомненная музыкальность, активно думающая голова (что для балетных вообще редкость). В конце концов, у нас не так много хореографов, имеющих в послужном списке постановки в Нью-Йорк Сити балле. Перенос экспериментального «Ринга», обаятельные «Венгерские танцы» — все это было разминкой, а вот «Дафнис и Хлоя» с собственным оригинальным либретто выглядит уже программной заявкой. На мой вкус, в нем перебор по части родовых примет советского драмбалета, но есть и настоящие визуальные находки. И если постановку трудно причислить к безусловным шедеврам, то и в шеренгу отстойных благоглупостей, составляющих немалую часть репертуара российских театров, «Дафнис» точно не попадает.
Так что перспективы у пермского балета есть. Но для своего светлого будущего он должен стать объектом политической воли и важнейшей частью широко обсуждаемого ныне проекта «Культурная столица».