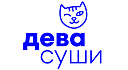24 апреля 2024
Сегодня
25 апреля 2024
26 апреля 2024
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
03.10.2011
Новые Известия: Настоящий Моцарт
В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Моцарта «Cosi fan tutte» – первая постановка нового худрука Теодора Курентзиса. В спектакле заявлены два состава исполнителей. Один – приглашенный, а второй – с пермскими артистами.
Для своей первой постановки дирижер Теодор Курентзис выбрал опасное ключевое слово «аутентичность». Тем самым он шел на двойной риск – быть проигнорированным теми, для кого слово это означает, что сцену покроют музейной пылью, и уличенным в лукавстве теми, кто точно знает, что у Моцарта «было не так». Но на обоих этих фронтах постановка в Перми побеждает легко и между делом, потому что, по сути, ведет совершенно иную – третью – войну, которую можно назвать войной за антисовременность. Если понимать под этим словом не отсутствие современности, а ее сознательный антипод.
Спектакль антисовременен, потому что негерметичен по смыслу и виртуозен по исполнению. Сложные задачи театр ставит перед собой, а не перед зрителем. Смысл происходящего и каждой отдельной мизансцены не только ясен, но и простодушен. Ответ на вопрос: могут ли две порядочные и влюбленные девушки в полдень проститься со своими женихами, а к полуночи выйти замуж за других – очевиден с самого начала даже тому, кто не знаком с либретто Да Понте. Вопрос не в том, изменят ли вопрос – как и когда. Режиссер Маттиас Ремус позволяет себе лишь смещение акцента, с самого начала заставляя героинь путаться в портретах своих любимых и одевая и гримируя обоих женихов практически в близнецов. То есть «так поступают все женщины» потому, что все мужчины принципиально одинаковы, что тот солдат, что этот, ну и в чем же тут измена, спрашивается?
Против простодушия самой истории стоит беспримерная – и нескрываемая – сложность средств, к которым прибегает театр, чтобы ее рассказать. Музыкальные инструменты для постановки заказывали специально – реплики инструментов моцартовского времени, с жильными струнами – не ради удовольствия, а ради оригинального тембра. Струнная группа три с половиной часа играет в оркестровой яме стоя – чтобы не терять контакт с исполнителями на сцене. При этом музыканты и певцы умудряются не терять еще и контрастный, местами убийственно быстрый темп, задаваемый дирижером. Российские исполнители за несколько месяцев усвоили итальянский язык и итальянскую просодию настолько, что исполнение на языке оригинала кажется само собой разумеющимся. Декоратор Штефан Дитрих потратил все имевшиеся у него нервы для того, чтобы заставить мастерские сшить костюмы по лекалам и технологиям XVIII века – и создать декорации, которые заставляют забыть и аляповатую театральность, и сценический «евроремонт». Художник по свету Хайнц Каспер выстроил партитуру движения солнца в соответствии со временем сценических суток.
Кульминация и эпицентр этой планомерно организованной сложности – два совершенно разных состава исполнителей. Один – международный и звездный – с Симоной Кермес (Фьордилиджи), Марией Форсстрем (Дорабелла), Анной Касьян (Деспина), Тобиасом Берндтом (Дон Альфонсо), Бреттом Полегато (Гульельмо), Станиславом Леонтьевым (Феррандо). Второй, более контрастный по голосам и более ансамблевый по сценическому действию, российский (соответственно Анна Касьян, Надежда Бабинцева, Наталья Кириллова, Гарри Агаджанян, Максим Аниськин и снова Станислав Леонтьев). Оба состава по-разному – но оба в сочетании драйва и вышколенности – воспроизводят центральную коллизию спектакля: певцы разыгрывают буффонаду, а голоса несутся в зал концентрацией страсти, тоски и мучения; играют комедию, а поют при этом трагедию.
При этом речь не идет о «дорогом красивом спектакле» с приглашенными высокооплачиваемыми звездами. Суть не в том, что за все это нужно было заплатить, а в том, что все это нужно было сделать. Потому что опыт современной жизни вообще и современной художественной жизни в частности как раз в том и заключается, что можно потратить любые деньги, а в результате получить – извините – фуфло. Так вот, Пермский театр во главе со своим новым худруком поставил спектакль, аутентичный в том смысле этого слова, который подразумевает – нечто настоящее.
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023