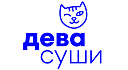25 апреля 2024
Сегодня
26 апреля 2024
27 апреля 2024
28 апреля 2024
30 апреля 2024
02 мая 2024
03 мая 2024
04 мая 2024
05 мая 2024
16 мая 2024
18 мая 2024
19 мая 2024
21 мая 2024
22 мая 2024
25 мая 2024
26 мая 2024
28 мая 2024
29 мая 2024
31 мая 2024
01 июня 2024
02 июня 2024
04 июня 2024
05 июня 2024
06 июня 2024
07 июня 2024
13 июня 2024
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
19 июня 2024
20 июня 2024
21 июня 2024
22 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
23 июня 2024
Билеты будут доступны на старте продаж событий фестиваля
25 июня 2024
26 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024
18 августа 2024
20 августа 2024
25 августа 2024
28 августа 2024
29 августа 2024
01 сентября 2024
04 сентября 2024
08 сентября 2024
10 сентября 2024
12 сентября 2024
14 сентября 2024
15 сентября 2024
18 сентября 2024
20 сентября 2024
22 сентября 2024
25 сентября 2024
27 сентября 2024
28 сентября 2024
29 сентября 2024
14.04.2022
Ностальгия по опере. Новый компаньон
Пермский театр оперы и балета представил новую постановку «Евгения Онегина»

Фото: Андрей Чунтомов
…И, судя по премьере, он очень этой работы хотел. Спектакль пронизан любовью к оперному жанру в его самом классическом, несколько даже старомодном «изводе». Ревнители классических оперных постановок в Перми могут ликовать: здесь они найдут пышные кринолины и высокие цилиндры, канделябры и букеты, фортепиано и знаменитый малиновый берет замужней Татьяны. И, конечно, музыку Чайковского, бережно преподнесённую без купюр и вольностей — в этом смысле пермский «Онегин» полная противоположность пермской же «Кармен». Здесь даже перерывов два, а не один, как принято в последние годы практически повсеместно!
Однако не все так буквально. Этот спектакль — не «опера-опера», а рефлексия о ней, ее проекция из воображения; это не та опера, которая царила на советской сцене десятилетиями, а та, что запечатлелась в памяти благодарных и восторженных меломанов. Память же, как известно, материя сложная, неверная и ненадёжная. Художники-сюрреалисты и вообще творцы ХХ века всё нам рассказали о её причудах — в «Причудах памяти» Сальвадора Дали время буквально растекается, а в «Солярисе» Тарковского дождь идёт не снаружи, а внутри дома, который разумный Океан планеты Солярис реконструировал по памяти героя. В памяти совместились дождь и отцовский дом, и вот…
Здесь — те же трансформации и аберрации. Евгений Онегин в этом спектакле — унылый, опустившийся, разорившийся помещик, который, лежа на диване в засаленном шлафроке, предается воспоминаниям об ошибках юности, и все действие — это проекция его воспоминаний. Как в «Солярисе», здесь парадный канделябр свисает прямо с неба, по которому плывут облака, а место действия вырвано из реальности, как клякса, — подобный эффект часто встречается в картинах Рене Магритта — и помещено «в никуда»: вокруг неровного пятачка воспоминаний ничего нет, даже кулис и задника (сценограф — сам Владиславс Наставшевс).
Пространство реальности и пространство воспоминаний совмещаются драматично, и здесь огромную роль играет работа художника по свету Константина Бинкина: «призраки» — Татьяна, Ольга, Ленский, госпожа Ларина и няня — находятся в полумраке и полутумане, откуда световой луч прицельно выхватывает выбеленное лицо страдающего помещика. Временами они становятся буквально призраками — туманными фигурами, которые видеопроекция создает на густом сценическом дыме. Постепенно призраки материализуются и буквально хватают Онегина, утягивая в прошлое. Он пытается вырваться, но не особо успешно…

Фото: Андрей Чунтомов
Причуды памяти выпячивают те или иные детали прошлого — наряды, букеты, жесты и слова. Здесь слишком тонкая и воздушная кисея, слишком жёсткие и нелепые кринолины, слишком высокий цилиндр (художник по костюмам — опять-таки Владиславс Наставшевс), слишком манерный Ленский, чья преувеличенная — он же поэт! — жестикуляция напоминает движения марионетки. Это — опять-таки проекция сознания героя и в то же время — авторская ирония по отношению к оперным штампам: в отличие от подавляющего большинства коллег Наставшевс не уходит от них, а использует с поправкой на современное восприятие, любя и ностальгируя по высокому оперному жанру, но сознавая, что его сегодня уже вряд ли можно повторить всерьез.
Понятно, что прошлое — материя ветхая, хрупкая. Диван колченогий, зеркало треснуло, пышные букеты полевых цветов превратились в сухие ветки. Онегин явно не преуспевает… Его вялость, неряшливость, лень — это черты совсем другого «лишнего человека» из русской литературы. Если бы опера была иллюстрацией к литературоведческому труду, он мог бы называться «Эволюция „лишнего человека“: от Онегина к Обломову».
Постановка вообще не стремится отойти от литературной основы. Наставшевс всячески подчёркивает литературность сюжета, героев, эстетики. Книги на сцене повсюду. Они и в руках у Татьяны, которой «рано нравились романы, они ей заменяли все», и подпирают безногий онегинский диван, становятся опорой ленивого существования «лишнего человека» — незавидная участь для некогда главного носителя идей и источника информации для всего человечества, но ведь именно так обстоит дело в наши дни: книги устаревают, уходят, и это тоже повод для грусти о прошлых временах.
Оркестр всячески подчеркивает настроение меланхолического воспоминания, ностальгии по прекрасному и славному прошлому: под управлением Михаила Татарникова, у которого это уже пятый «Онегин», оркестр играет подчеркнуто кантиленно, протяжно и лирично, с красивыми, печальными соло духовых, где кларнеты звучат почти психоделически. Дирижер говорит, что хотел бы сделать звук «петербургским», «северным», и, думается, это получилось.
Хотя и не сразу: на премьере были сложности с балансом, где-то инструменты звучали громче певцов; не сразу музыкантам удалось справиться с акустикой оголенной сцены, а певцам — с обилием сценического дыма, но к четвертому представлению все выстроилось практически идеально, и такого красивого в музыкальном отношении «Онегина» в Перми ещё никогда не было.
Постановка была изначально рассчитана на вокальные силы местной труппы, без приглашенных солистов, но полностью выполнить эту установку не удалось: незадолго до премьеры труппу покинул один из потенциальных Ленских Сергей Годин, и приглашенный Ленский — солист Камерной сцены Большого театра Александр Чернов — составил ему достойную замену. Когда на четвертом показе 5 апреля он спел свою арию, главную в этой опере, зал затих, затем раздалось негромкое, но очень увесистое «браво», и тут же — овация; казалось, зрители заставят его петь на бис прямо сейчас. К сожалению, на премьере 1 апреля штатный Ленский Борис Рудак такого же успеха не добился, возможно, ему мешал сценический дым (после первого показа его количество на сцене пришлось уменьшить).
Из трех Татьян — Анжелики Минасовой, Ольги Поповой и Дарьи Пичугиной — сложно выбрать лучшую, по крайней мере в вокальном отношении, что же касается актерской игры, то Анжелика Минасова, выступавшая в первом составе, чересчур буквально восприняла режиссерский пиетет по отношению к штампам классической оперы: она мечется по сцене, как в опере, заламывает руки, как в опере, и падает без чувств, ну точно, как в опере. Ее коллеги играют более тонко и естественно.

Фото: Андрей Чунтомов
Из двух Онегиных той же склонностью к штампованной жестикуляции грешит Энхбат Тувшинжаргал, однако его бархатный баритон редкой окраски заставляет многое ему простить. И все же Онегиным номер один в Пермской опере стал, бесспорно, Константин Сучков. Его искусное, тонкое пение дополняется выдающимся артистизмом. Финальная встреча Онегина с четой Греминых происходит у Наставшевса не на балу (здесь вообще нет никаких балов, вся история камерная, для восьми персонажей, даже семи, поскольку Трике со своими куплетами возникает из ниоткуда и туда же исчезает), а где-то вроде синематографа: на полупрозрачный занавес проецируется изображение лица героя; Константин Сучков в этом очень непростом для театрального актера эпизоде показывает, что он совершенно не боится крупного плана и мог бы отлично сыграть в кино.
При этом надо понимать, что режиссер отнесся к главному герою спектакля безжалостно: Онегин вынужден быть на сцене постоянно, неотлучно — ведь мы видим его воспоминания, куда же без него. Уж если опера называется «Евгений Онегин», то Онегина должно быть много.
И, конечно, в Перми есть две великолепные Ольги — Наталья Ляскова и Наталья Буклага. Обе так естественно, так легко и оправданно спели знаменитое рычащее «меня ребенком все зовут», что осталось только пожалеть, что у этого персонажа в опере мало вокального материала.
Сюжет пушкинского стихотворного романа сегодня воспринимать, конечно, сложно — он читается не только иначе, чем во времена написания, но даже иначе, чем в советские школьные годы. Как так: убить человека, друга, и после этого продолжать страдать от неразделённой любви? Неужели нет других, более веских причин для страданий? У Наставшевса мертвый Ленский, сквозь которого прорастают вчерашние пышные букеты («Я к вам травою прорасту», — мог бы сказать этот поэт, если бы его звали Геннадием Шпаликовым), становится немым укором герою, этаким «мальчиком кровавым», чье присутствие на сцене придает совершенно новый смысл финальной реплике Онегина — «О, жалкий жребий мой». «Уж лучше бы я сам умер», — словно говорит этот Онегин.
После «Иоланты» (12+) в постановке Марата Гацалова «Евгений Онегин» стал второй «обновкой» «чайковского» репертуара в театре имени этого композитора. Для комплекта должна быть «Пиковая дама», и она, по уверениям Дмитрия Ренанского, будет представлена в сезоне 2023/24. Постановщики пока неизвестны, идут переговоры с потенциальными режиссерами.
Текст: Юлия Баталина, Новый компаньон
Читайте также
02 апреля 2024
20 декабря 2023